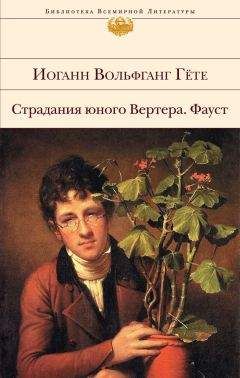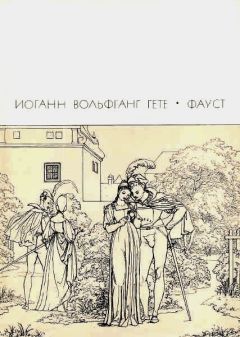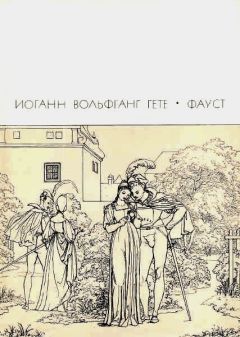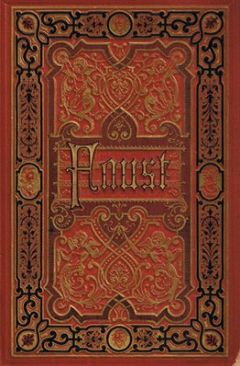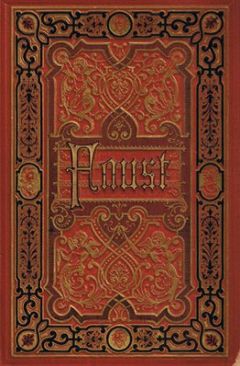Иоганн Гёте - Фауст
Когда ж у рукавов Эврота к берегу... — Эврот — крупнейшая река в Лакедемонии, земле спартанцев.
Что предначертано, знать не ищи. — Стих Еврипида, дважды им повторенный (в «Андромахе» и в «Елене»).
Так ознаменовали мой сегодняшний / Приезд с чужбины, божества стигийские — то есть богини мести эринии.
Ремарка: Одна из форкиад показывается на пороге между дверными косяками. — Форкиада — дочь Форкиса, морского божества, одна из горгон: в её облике выступает здесь Мефистофель. — Хор «Головы наши хоть и кудрявы» состоит из четырех строф и четырех антистроф, расположенных попарно и разделенных эподом. Мифологические мотивы хора заимствованы из «Илиады», из «Троянок» Еврипида и «Энеиды» Вергилия.
Жив твой отец Эреб? Жива ль Ночь-матушка! — Эреб и Ночь — порождены Хаосом, подземными силами. — А как твоя сестрица Сцилла здравствует? — Сцилла была обращена Цирцеей в чудовище с шестью головами и двенадцатью лапами. — С Тирезием седым в аду заигрывай. — Тирезий — слепой фиванский жрец, одаренный Зевсом за мудрое толкование его воли долголетием пяти возрастов (по другим вариантам мифа — десяти возрастов), а также пророческим даром, не отнятым у него и в Аиде; в античном мире имя «Тирезий» стало нарицательным для обозначения баснословной старости.
Тебе ведь внучкой мамка Орионова? — Орион — дикий великан в гомеровском Аиде; в основе реплики — принятое в древней Греции насмешливое определение возраста старухи: она бы могла быть кормилицей Нестора, Приама, Тифония или других знаменитых старцев, упоминаемых в народном эпосе.
Всю жизнь ты видела / Одних самозабвенных обожателей... — Здесь, а также ниже, в диалоге Форкиады с Еленой, Гёте влагает в уста Форкиады все варианты сказания о любвеобильной Елене, которые в объединенном виде не встречаются ни в одном из эпических или драматических повествований о спартанской царице. — Тобой пленился первым в годы ранние / Тезей... — Восхищенный пляской Елены в храме Дианы (пляска была необходимой составной частью древнегреческого богослужения), Тезей совместно с Парисом похитил ее. По жребию она досталась Тезею, который доверил её своему другу, дожидаясь поры, когда десятилетняя царевна достигнет более зрелого возраста.
Когда же Крит супруг твой завоевывал... — По одному варианту мифа, Менелай был сыном царя Крита (с острова, названного по имени этого царя). После смерти отца Менелай покинул Спарту, чтобы принять наследие, уже захваченное его родичами. Во время этой его отлучки и свершилось похищение Елены. — Передают, что ты жила в двух обликах, / И в Трое и в Египте одновременно. — По одному варианту мифа, Гера (Юнона), рассерженная тем, что не она победила в состязании трех богинь (Геры, Афродиты и Афины), помешала браку Париса с Еленой, соткав из эфира живой призрак спартанской царицы; с ним-то Парис и уехал в Трою, Елена же была унесена Гермесом в Египет, во дворец Протея. Этим вариантом мифа воспользовался Еврипид, желая с его помощью оправдать и нравственно возвысить прекрасную грешницу, любимую героиню эллинов (трагедия «Елена»).
А правда, что из царства мертвых будто бы / К тебе Ахилл являлся на свидание... — Существует вариант мифа о Елене, согласно которому она, уже после смерти, вступила в брак с мертвым Ахиллом, умолившим свою мать Фетиду даровать ему и Елене хотя бы недолгое возвращение к жизни. Этот брак состоялся на заколдованном острове Левке, где Елена прижила с Ахиллом сына Эвфориона (ср. эпизод с Эвфорионом в настоящем акте «Фауста»).
С честью госпожа умрет, / Вы же — смертию позорной: я под кровельным венцом / На стропиле вас повешу, словно пойманных дроздов. — Здесь воссоздана картина расправы Одиссея со служанками его жены Пенелопы, которые потворствовали её дерзким искателям.
...там обосновалось племя смелое, / Горсть северян, страны полночной выходцы. — Намек на основание в Греции франконского рыцарского государства (двух княжеств, Ахайи и Марса) французским крестоносцем Гийомом де Шамплитт; — неприкосновенность границ этих двух княжеств была гарантирована договором от 1207 года между французским рыцарским орденом крестоносцев и Венецианской республикой.
Гербы... У Аякса, помните, / Был на щите представлен змей свернувшийся, / И семеро у Фив таким же образом / Щиты снабдили знаками особыми. — Гёте вместе с Гердером («Третья рощица») считал, что гербы — порождение «эпохи варварских рыцарских турниров». Щит ахейского героя Аякса был изображен на хорошо знакомой поэту античной вазе, хранившейся в веймарском герцогском дворце. Описание щитов семи фиванских героев заимствовано из трагедий Эсхила «Семеро против Фив».
А как он Деифоба изуродовал... — Деифоб, младший сын Приама Троянского, был предан Менелаем мучительной казни: по его повелению, Деифоба медленно изрубили на куски.
Внутренний двор замка
Или в ямочках щек, что, как персик, в пуху, / Так и манят, как персики, их укусить? / Укусила б, но — страшно сказать: укушу, — / Рот наполнится прахом могильным. — Троянки подозревают, что эти юноши — только призраки, выведенные из Аида старухой Форкиадой; быть может, они также начинают догадываться, что и сами являются только выходцами из Аида.
Линкей. — Гёте дает имя дозорному Фауста в честь кормчего корабля аргонавтов Линкея, обладавшего необыкновенной зоркостью. Линкей поражен любовью к Елене. Фауст сознательно ищет её любви как одного из возможных разрешений своей тоски по «безусловному», по «вневременно ценному».
Пускай Коринфский перешеек / Германец валом обведет. — Фауст обращается последовательно к германцам, французам, саксам (англичанам) и норманнам; в феодальных княжествах, основанных в Греции рыцарями-крестоносцами, рыцарские поместья (сеньории) были распределены между представителями перечисленных народов.
Эвфорион — сын Фауста и Елены (по имени сына Елены и Ахилла; см. выше). Эпизод с Эвфорионом, раскрывающий весь смысл вплетенной в трагедию темы «Елены», истолкован в предисловии.
Это кончается / Новый Икар. — Икар, восковые крылья которого растаяли, когда он приблизился к солнцу, что повлекло за собой его падение в море и смерть, здесь упоминается троянками как прообраз Эвфориона, которого должна постигнуть та же трагическая участь.
Средь лугов асфоделевых... — Асфодели — по поверью древних греков, единственные цветы, растущие в Аиде: асфоделями, широко распространенными в Южной Европе, древние греки украшали саркофаги, могилы и урны.
Акт четвертый
Четвертый акт написан в 1830-1831 годах. Этот акт и первая картина пятого акта, «Открытая местность», — последние сцены «Фауста», над которыми работал Гёте.
Горная местность
Когда за грех один / Господь низверг нас... — Начинающееся этим стихом рассуждение Мефистофеля о сотворении мира, насыщенное библейскими мотивами, а также мотивами, почерпнутыми из Мильтонова «Потерянного рая», является в то же время сатирой на вулканистов. Александр фон Гумбольдт прямо относил этот выпад к себе. В своем письме к минералогу и поэту Францу фон Кобеллю он пишет (за чтением второй песни Кобеллевой поэмы «Прибытие Земли»): «Я чувствовал себя немного отомщенным за дурное обхождение с нами во второй части «Фауста».
Молох ковал утесы на огне / И сыпал стопудовые обломки. — В «Мессиаде» немецкого поэта Клопштока (старшего современника Гёте) Молох — воинствующий дух, воздвигающий скалы, и гордый богоборец.
Так замок я б себе воздвиг / В веселом живописном месте... — Далее следуют описания Версаля, резиденции французских королей, отстроенной Людовиком XIV, которую старались воспроизвести по мере сил и возможностей в своих карликовых государствах все немецкие князья конца XVII и начала XVIII века. Описание этого королевского парка и вызывает реплику Фауста: «Дань времени! Сарданапал!» Имя ассирийского царя Сарданапала здесь — синоним человека, предающегося роскоши и неге.
Мой взор был сверху привлечен / Открытым морем в час прилива... — Мотив победы разумного человеческого труда над силами природы становится центральной темой пятого акта. Мефистофель отвлекает Фауста от осуществления великой цели, от подлинно творческой жизни, втягивая его в государственную междоусобицу, так же как он заставил Фауста (в первой части трагедии) забыть о своем долге перед Гретхен, увлекши его на Брокен (первая «Вальпургиева ночь»).
Язык поповский. — По первоначальному замыслу, Фауст должен был после смерти Эвфориона преследовать попов и монахов. Этот мотив остался неразвитым; в четвертом акте сохранилось только несколько намеков на эту тему.