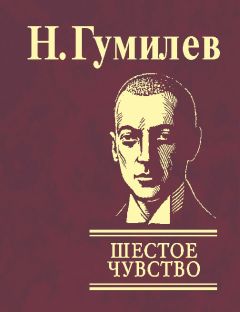Николай Гумилев - Глоток зеленого шартреза
В. И. Иванову
Раскроется серебряная книга,
Пылающая магия полудней,
И станет храмом брошенная рига,
Где, нищий, я дремал во мраке будней.
Священных схим озлобленный расстрига,
Я принял мир и горестный, и трудный,
Но тяжкая на грудь легла верига,
Я вижу свет… то День подходит Судный.
Не смирну, не бдолах, не кость слоновью –
Я приношу зовущему пророку
Багряный сок из виноградин сердца.
И он во мне поймет единоверца,
Залитого, как он, во славу Року
Блаженно расточаемою кровью.
1909
Нежданно пал на наши рощи иней,
Он не сходил так много-много дней,
И полз туман, и делались тесней
От сорных трав просветы пальм и пиний.
Гортани жег пахучий яд глициний,
И стыла кровь, и взор глядел тусклей,
Когда у стен раздался храп коней,
Блеснула сталь, пронесся крик эриний.
Звериный плащ полуспустив с плеча,
Запасы стрел еще не расточа,
Как груды скал, задумчивы и буры,
Они пришли, губители богов,
Соперники летучих облаков,
Неистовые воины Ассуры.
1909
Она говорила: «Любимый, любимый,
Ты болен мечтою, ты хочешь и ждешь,
Но память о прошлом, как ратник незримый,
Взнесла над тобой угрожающий нож.
О чем же ты грезишь с такою любовью,
Какую ты ищешь себе Госпожу?
Смотри, я прильну к твоему изголовью
И вечные сказки тебе расскажу.
Ты знаешь, что женское тело могуче,
В нем радости всех неизведанных стран,
Ты знаешь, что женское сердце певуче,
Умеет целить от тоски и от ран.
Ты знаешь, что, робко себя сберегая,
Невинное тело от ласки тая,
Тебя никогда не полюбит другая
Такой беспредельной любовью, как я».
Она говорила, но, полный печали,
Он думал о тонких руках, но иных;
Они никогда никого не ласкали,
И крестные язвы застыли на них.
1909
Нет тебя тревожней и капризней,
Но тебе предался я давно
Оттого, что много, много жизней
Ты умеешь волей слить в одно.
И сегодня… Небо было серо,
День прошел в томительном бреду.
За окном, на мокром дерне сквера
Дети не играли в чехарду.
Ты смотрела старые гравюры,
Подпирая голову рукой,
И смешно-нелепые фигуры
Проходили скучной чередой.
«Посмотри, мой милый, видишь – птица,
Вот и всадник, конь его так быстр,
Но как странно хмурится и злится
Этот сановитый бургомистр!»
А потом читала мне про принца,
Был он нежен, набожен и чист,
И рукав мой кончиком мизинца
Трогала, повертывая лист.
Но когда дневные смолкли звуки
И взошла над городом луна,
Ты внезапно заломила руки,
Стала так мучительно бледна.
Пред тобой смущенно и несмело
Я молчал, мечтая об одном:
Чтобы скрипка ласковая пела
И тебе о рае золотом.
<<1910? >>
Аддис-Абеба, город роз.
На берегу ручьев прозрачных,
Небесный див тебя принес,
Алмазный, средь ущелий мрачных.
Армидин сад… Там пилигрим
Хранит обет любви неясной.
Мы все склоняемся пред ним,
А розы душны, розы красны.
Там смотрит в душу чей-то взор,
Отравы полный и обманов,
В садах высоких сикомор,
Аллеях сумрачных платанов.
<<1911 >>
Я молчу – во взорах видно горе,
Говорю – мои слова так злы.
Ах, когда ж я вновь увижу в море
Синие и пенные валы.
Белый парус, белых, белых чаек
Или ночью длинный лунный мост,
Позабыв о прошлом и не чая
Ничего в грядущем, кроме звезд!
Видно, я суровому Нерею
Смог когда-то очень угодить,
Что теперь – его, и не умею
Ни полей, ни леса полюбить.
Я томлюсь, мне многого не надо,
Только – моря с четырех сторон.
Не была ль сестрою мне наяда,
Нежным братом лапчатый тритон?
Боже! Будь я самым сильным князем,
Но живи от моря вдалеке,
Я б, наверно, повалившись наземь,
Грыз ее и бил в глухой тоске!
<<1911 >>
Все ясно для тихого взора:
И царский венец, и суму,
Суму нищеты и позора, –
Я все беспечально возьму.
Пойду я в шумящие рощи,
В забытый хозяином сад,
Чтоб ельник, корявый и тощий,
Внезапно обрадовал взгляд.
Там брошу лохмотья и лягу
И буду во сне королем,
А люди увидят бродягу
С бескровно-землистым лицом.
Я знаю, что я зачарован
Заклятьем сумы и венца,
И если б я был коронован,
Мне снилась бы степь без конца.
<<1911 >>
Месяц встал; ну что ж, охота?
Я сказал слуге: «Пора!
Нынче ночью у болота
Надо выследить бобра».
Но, осклабясь для ответа,
Чуть скрывая торжество,
Он воскликнул: «Что ты, гета [23],
Завтра будет Рождество.
И сегодня ночью звери:
Львы, слоны и мелкота –
Все придут к небесной двери,
Будут радовать Христа.
Ни один из них вначале
На других не нападет,
Не укусит, не ужалит,
Не лягнет и не боднет.
А когда, людьми не знаем,
В поле выйдет Светлый Бог,
Все с мычаньем, ревом, лаем
У его столпятся ног.
Будь ты зрячим, ты б увидел
Там и своего бобра,
Но когда б его обидел,
Мало было бы добра».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я ответил: «Спать пора!»
<<1911 >>
Когда я был влюблен (а я влюблен
Всегда – в идею, женщину иль запах),
Мне захотелось воплотить мой сон,
Причудливей, чем Рим при грешных папах.
Я нанял комнату с одним окном,
Приют швеи, иссохшей над машинкой,
Где, верно, жил облезлый старый гном,
Питавшийся оброненной сардинкой.
Я стол к стене подвинул; на комод
Рядком поставил альманахи «Знанье»,
Открытки – так, чтоб даже готтентот
В священное б пришел негодованье.
Она вошла спокойно и светло,
Потом остановилась изумленно.
От ломовых в окне тряслось стекло,
Будильник тикал злобно-однотонно.
И я сказал: «Царица, вы одни
Сумели воплотить всю роскошь мира;
Как розовые птицы ваши дни,
Влюбленность ваша – музыка клавира.
Ах! Бог Любви, заоблачный поэт,
Вас наградил совсем особой меткой,
И нет таких, как вы…» Она в ответ
Задумчиво кивала мне эгреткой.
Я продолжал (и резко за стеной
Звучал мотив надтреснутой шарманки):
«Мне хочется увидеть вас иной,
С лицом забытой Богом гувернантки;
И чтоб вы мне шептали: «Я твоя»,
Или еще: «Приди в мои объятья».
О, сладкий холод грубого белья,
И слезы, и поношенное платье.
А уходя, возьмите денег: мать
У вас больна иль вам нужны наряды…
…Мне скучно все, мне хочется играть
И вами, и собою – без пощады…»
Она, прищурясь, поднялась в ответ;
В глазах светились злоба и страданье:
«Да, это очень тонко, вы поэт,
Но я к вам на минуту… до свиданья!»
Прелестницы, теперь я научен.
Попробуйте прийти, и вы найдете
Духи, цветы, старинный медальон,
Обри Бердслея в строгом переплете.
<<1911 >>
Вечерний медленный паук
В траве сплетает паутину, –
Надежды знак. Но, милый друг,
Я взора на него не кину.
Всю обольстительность надежд,
Не жизнь, а только сон о жизни,
Я оставляю для невежд,
Для сонных евнухов и слизней.
Мое «сегодня» на мечту
Не променяю я и знаю,
Что муки ада предпочту
Лишь обещаемому раю, –
Чтоб в час, когда могильный мрак
Вольется в сомкнутые вежды,
Не засмеялся мне червяк,
Паучьи высосав надежды.
1911
Какою музыкой мой слух взволнован?
Чьим странным обликом я зачарован?
Душа прохладная, теперь опять
Ты мне позволила желать и ждать.
Душа просторная, как утром даль,
Ты убаюкала мою печаль.
Ее, любившую дорогу в храм,
Сложу молитвенно к твоим ногам.
Все, все, что искрилось в моей судьбе,
Все, все пропетое – тебе, тебе!
<<1911 >>
Замирает дыханье и ярче становятся взоры
Перед сладко волнующим ликом твоим, Неизвестность,
Как у путника, дерзко вступившего в дикие горы
И смущенного видеть еще не открытую местность.
В каждой травке намек на возможность несбыточной
встречи,
Этот грот – обиталище феи всегда легкокрылой,
Миг… и выйдет, атласные руки положит на плечи
И совсем замирающим голосом вымолвит: «Милый!»
У нее есть хранитель, волшебник ревнивый и страшный,
Он отмстит, он, как сетью, опутает душу печалью.
…И поверить нельзя, что и здесь, как повсюду,
всегдашний,
Бродит школьный учитель, томя прописною моралью.
1911
Целый вечер в саду рокотал соловей,
И скамейка в далекой аллее ждала,
И томила весна… Но она не пришла,
Не хотела, иль просто пугалась ветвей.
Оттого ли, что было томиться невмочь,
Оттого ли, что издали плакал рояль,
Было жаль соловья, и аллею, и ночь,
И кого-то еще было тягостно жаль.
– Не себя! Я умею быть светлым, грустя;
Не ее! Если хочет, пусть будет такой;
…Но зачем этот день, как больное дитя,
Умирал, не отмеченный Божьей Рукой?
1911
Вечерние тихи заклятья,
Печаль голубой темноты,
Я вижу не лица, а платья,
А может быть, только цветы.
Так радует серо-зеленый,
Живой и стремительный весь,
И, может быть, к счастью, влюбленный
В кого-то чужого… не здесь.
Но душно мне… Я зачарован;
Ковер надо мной, словно сеть;
Хочу быть спокойным – взволнован,
Смотрю – а хочу не смотреть.
Смолкает веселое слово,
И ярче пылание щек:
То мучит, то нежит лиловый,
Томящий и странный цветок.
1911
Кончено! Дверь распахнулась пред ним, заключенным;
Руки не чувствуют холода цепи тяжелой,
Грустно расстаться ему с пауком прирученным,
С хилым тюремным цветком пичиолой.
Жалко тюремщика… (он иногда улыбался
Странно-печально)… и друга за тяжким затвором…
Или столба, на котором однажды качался
Тот, кого люди назвали убийцей и вором…
Жалко? Но только как призрак растаяли стены –
В темных глазах нетерпенье, восторг и коварство:
Солнце пьянит его, солнце вливается в вены,
В сердце… Изгнанник идет завоевывать царство.
1911
Ангел лег у края небосклона,
Наклоняясь, удивлялся безднам.
Новый мир был темным и беззвездным.
Ад молчал. Не слышалось ни стона.
Алой крови робкое биенье,
Хрупких рук испуг и содроганье,
Миру снов досталось в обладанье
Ангела святое отраженье.
Тесно в мире! Пусть живет, мечтая
О любви, о грусти и о тени,
В сумраке предвечном открывая
Азбуку своих же откровений.
<<1911 >>
Да! Мир хорош, как старец у порога,
Что путника ведет во имя Бога
В заране предназначенный покой,
А вечером, простой и благодушный,
Приказывает дочери послушной
Войти к нему и стать его женой.
Но кто же я, отступник богомольный,
Обретший все и вечно недовольный,
Сдружившийся с луной и тишиной?
Мне это счастье – только указанье,
Что мне не лжет мое воспоминанье
И пил я воду родины иной.
<<1911 >>
Из камня серого иссеченные вазы,
И купы царственные ясени, и бук,
И от фонтанов ввысь летящие алмазы,
И тихим вечером баюкаемый луг.
В аллеях сумрачных затерянные нары
Так по-осеннему тревожны и бледны,
Как будто полночью их мучают кошмары
Иль пеньем ангелов сжигают души сны.
Здесь принцы грезили о крови и железе,
А девы нежные о счастии вдвоем,
Здесь бледный кардинал пронзил себя ножом…
Но дальше, призраки! Над виллою Боргезе
Сквозь тучи золотом блеснула вышина, –
То учит забывать встающая луна.
<<1913 >>
О сердце, ты неблагодарно!
Тебе – и розовый миндаль,
И горы, вставшие над Арно,
И запах трав, и в блеске даль.
Но, тайновидец дней минувших,
Твой взор мучительно следит
Ряды в бездонном потонувших
Тебе завещанных обид.
Тебе нужны слова иные,
Иная, страшная пора.
…Вот грозно встала Синьория
И перед нею два костра.
Один – как шкура леопарда,
Разнообразен, вечно нов.
Там гибнет «Леда» Леонардо
Средь благовоний и шелков.
Другой, зловещий и тяжелый,
Как подобравшийся дракон,
Шипит: «Вотще Савонаролой
Мой дом державный потрясен».
Они ликуют, эти звери,
А между них, потупя взгляд,
Изгнанник бледный, Алигьери,
Стопой неспешной сходит в ад.
<<1913 >>
Зеленое, все в пенистых буграх,
Как горсть воды, из океана взятой,
Но пригоршней гиганта чуть разжатой,
Оно томится в плоских берегах.
Не блещет плуг на мокрых бороздах,
И медлен буйвол, грузный и рогатый,
Здесь темной думой удручен вожатый,
Здесь зреет хлеб, но лавр уже зачах.
Лишь иногда, наскучивши покоем,
С кипеньем, гулом, гиканьем и воем
Оно своих не хочет берегов,
Как будто вновь под ратью Ганнибала
Вздохнули скалы, слышен визг шакала
И трубный голос бешеных слонов.
<<1913 >>
Измучен огненной жарой,
Я лег за камнем на горе,
И солнце плыло надо мной,
И небо стало в серебре.
Цветы склонялись с высоты
На мрамор брошенной плиты,
Дышали нежно, и была
Плита горячая бела.
И ящер средь зеленых трав,
Как странный и большой цветок,
К лазури голову подняв,
Смотрел и двинуться не мог.
Ах, если б умер я в тот миг,
Я твердо знаю, я б проник
К богам, в Элизиум святой,
И пил бы нектар золотой.
А рай оставил бы для тех,
Кто помнит ночь и верит в грех,
Кто тайно каждому стеблю
Не говорит свое «люблю».
<<1913 >>
Скоро полночь, свеча догорела.
О, заснуть бы, заснуть поскорей,
Но смиряйся, проклятое тело,
Перед волей железной моей.
Как? Ты вновь прибегаешь к обману,
Притворяешься тихим; но лишь
Я забудусь: «Работать не стану,
Не хочу, не могу», – говоришь…
«Подожди, вот засну, и наутро,
Чуть последняя канет звезда,
Буду снова могуче и мудро,
Как тогда, как в былые года…»
Полно. Греза, бесстыдная сводня,
Задурманит тебя до утра,
И ты скажешь, лениво зевая,
Кулаками глаза протирая:
«Я не буду работать сегодня,
Надо было работать вчера».
<<1913 >>
Как-то он позвал меня к себе. Жил он недалеко, на Ивановской, близ Загородного, в чьей-то чужой квартире. Добрел я до него благополучно, но у самых дверей упал: меня внезапно сморило от голода. Очнулся я в великолепной постели, куда, как потом оказалось, приволок меня Николай Степанович, вышедший встретить меня у лестницы черного хода. (Парадные были везде заколочены.)