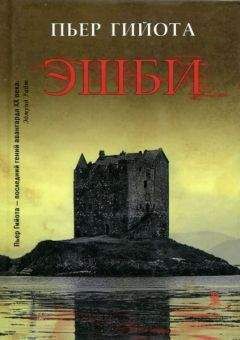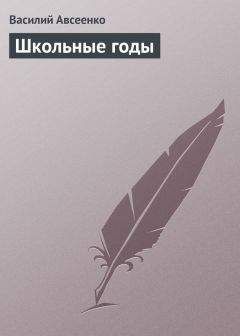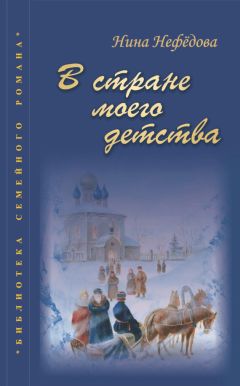Дмитрий Дашков - Поэты 1820–1830-х годов. Том 1
302. МАРИЯ
Ты розе подобно весну отцвела,
Младая Мария, в чужбине далекой,
Исторгнута грозно судьбиной жестокой
Из сени приютной родного села.
Не долго терзалась тоской неотлучной,
Не долго вздыхала о милом селе, —
Поблекла, как юный цветок злополучный,
Прибитый грозою к песчаной земле.
М. П. ЗАГОРСКИЙ
Рано умерший Михаил Петрович Загорский (1804–1824), как можно судить по ряду данных, был сыном известного анатома, профессора Медико-хирургической академии П. А. Загорского. В 1819 году он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета в качестве «вольного студента», но уже в 1821 году тяжелая болезнь заставляет его прервать занятия. 29 января 1823 года он подает прошение о разрешении держать экзамен за университетский курс; однако оканчивает университет лишь в 1824 году. 30 июля того же года он умирает[192].
Первоначальное литературное воспитание Загорского для 1820-х годов было довольно архаичным. Первые его опыты (шарады, эпиграммы) печатаются в «Благонамеренном» (1820); некоторый успех выпал на долю его сентиментальной баллады «Лиза» (1820), попавшей и в рукописные сборники. Загорский много переводит — из Горация, Вергилия, Шиллера и немецких преромантических поэтов (Фосс, Штольберг); отдает он дань и оссианизму («Морна», 1823; «Кальмар и Орля (из Байрона)», 1823; «Мальвина» и др.). Его оригинальные сочинения наиболее удачны в эпических жанрах: ему принадлежит несколько басен и сказок («Лисица и медведи», 1820; «Два извозчика», 1823; «Два колоса», 1823; «Пьяница» и др.), в которых вырабатывается непринужденный, легко-иронический стиль повествования, примененный потом Загорским и в более крупных формах. Одновременно он обращается к фольклорным темам: уже посмертно, в 1825 году, была опубликована его прозаическая стилизация волшебной сказки «Оборотень, или Старуха-красавица», переложение из «Слова о полку Игореве» («Ярославна») и фрагменты большой поэмы «Илья Муромец», над которой Загорский работал в течение нескольких лет. Можно думать, что «Илье Муромцу» предшествовала работа над иным сюжетом (о Мстиславе); сохранился набросок, озаглавленный издателями «Нападение богатыря Мстислава на войска хазарского хана (отрывок из повести)» и написанный так называемым «русским стихом» (хорей с дактилической клаузулой), употреблявшимся для имитации былинного стиха, и с прямой цитацией былинных формул. В дальнейшем поэт избирает в качестве героя Илью Муромца, а в качестве образца — «Неистового Роланда» Ариосто и только что появившуюся поэму Пушкина «Руслан и Людмила». Все это довольно характерно для литературного фольклоризма первых десятилетий XIX века; рассматривая былину, песню и т. д. как форму исторического колорита, национальной старины, Загорский стремится создать на основе вольной переработки мотивов былинного эпоса и древней русской поэзии («Слово о полку Игореве») романтическую волшебно-рыцарскую поэму. Вслед за Пушкиным он сохраняет характерный шуточно-иронический тон повествования, с прямым авторским комментарием, пародийными анахронизмами и бурлескным снижением героев. Пушкин, несомненно, видел в Загорском своего возможного продолжателя и последователя. Прочитав отрывки из поэмы, он писал Плетневу 4–6 декабря 1825 года: «Не уж-то Ил<ья> Мур<омец> Загорского? если нет, то кто ж псеудоним; если да: как жаль, что он умер»[193]. Немногочисленное сохранившееся наследие Загорского показывает, что «Илья Муромец» был не единственной попыткой создания эпического произведения на фольклорном материале или материале народной жизни. В последние годы он пишет «русскую народную идиллию» «Бабушка и внучка» и «русскую повесть» «Анюта» (1824), где сказывается то же тяготение к национальной старине, «народности», фольклору и стремление выработать национальные литературные формы по аналогии с формами, сложившимися в западном романтизме и даже в доромантической литературе. Так, «русская идиллия» пишется параллельно с переводом идиллии Фосса «Семидесятый день рождения», а «русская повесть» возникает на балладной основе, сюжетно-тематически как бы завершая серию ранних баллад Загорского о разлученных и посмертно соединившихся любовниках. Литературная деятельность Загорского вызывала интерес современников, и смерть его была воспринята как крушение больших и даже «блистательных» надежд. Некоторое время приписываемые ему стихи ходили в списках и после его смерти: его именем было подписано стихотворение А. И. Одоевского «Безжизненный град», найденное у арестованного С. П. Трубецкого; впрочем, распространители стихотворения, по-видимому, смешали М. П. Загорского с М. Н. Загоскиным.
303. АНДРОМАХА
Быстро флот Агамемнона,
На развитых парусах,
Утекал от Илиона,
Обращенного во прах.
На закате свет румяный
Мраку ночи уступал,
Рог серебряный Дианы
В спящем море трепетал.
Воин, бранью утомленный,
Опочивши по трудах,
Край отчизны отдаленной
Видел в сладостных мечтах.
Только легкие порывы
Ветров, спутников судам,
Только кормчего отзывы
Разносились по водам.
Андромаха, в грусти слезной,
Сквозь синеющий туман,
Взор вперя на брег любезный,
Брег фригийских злачных стран,
Где безмолвною могилой
Взят ее супруга прах,
К ним неслась душой унылой
И стенала так в слезах:
«Ах, померкнул трон Приама,
Ах, померкнул он навек,
И падение Пергама
Торжествует лютый грек!
Пали мощные герои,
Как под градом цвет лугов,
И величье гордой Трои
Будет баснею веков.
Тщетно Зевс-громодержитель
Рать данаев отражал,
Тщетно, брани возбудитель,
Марс твердыни защищал:
Час, назначенный судьбою,
С бурным мщением притек,
И священною главою
Илион на прахе лег.
Вижу, вижу ужас боя,
Вижу смерти мрачный пир:
Брань неистовая, воя,
Гонит прочь веселый мир,
С адской радостью когтями
Кроткую оливу рвет
И над грозными полками
Смрадный пламенник трясет.
Гектор, Гектор мой любезный!
Ах, куда тебя стремит
Сила груди дерзновенной!
Храбрость стрел не отвратит:
Там Пелопса горды внуки,
Там коварный Одиссей,
Там Аяксы жаждут руки
Омочить в крови твоей.
Горе, горе мне, несчастной!
Там Пелея сын младой,
Мышцей, взорами ужасный,
Мчится гибельной грозой:
Перед ним бегут дружины,
Как пред вихрем роковым,—
Ах, супруг мой, ты ль единый,
Ты ль посмеешь биться с ним!
Щит печального Пергама,
Тронься горестью моей,
Тронься воплями Приама
И младенца пожалей!
Ты не внемлешь, — ах, жестокий,
Кто ж несчастным будет щит,
Кто их слезные потоки
И страданье утолит!
Разлученная с тобою,
Где покоем наслаждусь?
Где бессчастной головою
Безопасно я склонюсь?
Ах, смягчит ли вид мой бледный
Чуждых хладные сердца!
Нет ни матери у бедной,
Нет ни доброго отца!
В Плаке, венчанном лесами,
Обладатель Гетеон
Правил сильными мужами,—
Но, увы, погибнул он
Под десницею Ахилла!
Матерь, пленница врага,
В рабстве тягостном изныла:
Гроб ей чуждые брега.
Ты бежишь — но, ах, уж поздно!
Прилетел ужасный миг;
Злобный враг несется грозно:
Свет, беги от глаз моих!
Смерти хладная обитель,
Дай ступить на твой мне праг!
Стой, суровый победитель,
И почти холодный прах!
Закатились очи ясны,
Бледны алые уста,
Страшен прежде вид прекрасный
И завяла красота!
Борзый конь кипит и мчится,
И кровавою струей
Поле бранное багрится:
Вид ужасный для очей!
Скоро ль, скоро ль час кончины
Мне пошлет всесильный рок?
Я избуду злой кручины;
Слез иссякнет горкий ток;
Там, в жилище безмятежном,
Вновь я сына обрету
И опять в супруге нежном
Счастье прежнее найду!»
Жертва горести и страха,
В сонме плачущих подруг,
Так стенала Андромаха;
Всё безмолвно было вкруг;
Рог серебряный Дианы,
Погружаясь, померкал,
И денницы свет румяный
На востоке возрастал.
304. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ