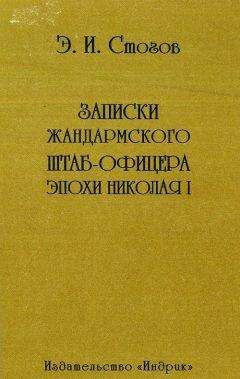Юрий Зобнин - Ахматова. Юные годы Царскосельской Музы
Летом Фёдоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом.
От обаяния прежних летних дней, прошедших в совместном чтении стихов и разговорах о пьесах Чехова, не осталось и следа! Оказавшись сама в роли героини «сюжета для небольшого рассказа», Ахматова возненавидела и стихи, и Фёдорова, и, увы, Чехова. Окружающий мир виделся ей абсолютно враждебным. Очевидно, какая-то ссора произошла и между ней и Арнольдами, поскольку в конце месяца племянницу срочно отправили домой с первым же пароходом, возобновившем рейсы после длительной забастовки рабочих одесского порта.
Но в Евпатории, где Инна Эразмовна переехала с детьми из дома Пасхалиди на загородную дачу, принадлежащую любезному хозяину, Ахматова задержалась недолго.
15 июля 1906 года в последнем градусе чахотки в санатории «Липицы» близ Царского Села скончалась Инна фон Штейн.
В тот же день в правление Русского Дунайского пароходства поступило последнее прошение о кредитовании: «по случаю кончины жены моей, и не имея средств схоронить её» (!!) Сергей Владимирович фон Штейн просил выдать в счёт жалованья 300 рублей.
И тут мрак, всюду присутствующий при описании этого лета в жизни Ахматовой, смыкается окончательно. Никакой информации нет нигде. Можно только задавать вопросы.
Могла ли Инна Эразмовна не приехать на похороны старшей дочери, сгоревшей так страшно всего лишь за полтора года?
Могла ли Ахматова не приехать на похороны любимой сестры?
Насколько удались похороны на кредитные 300 рублей от Русского Дунайского пароходства?
И, главное, какие там были встречи, какие последние, невероятные унижения достались Ахматовой во время этого немого, жуткого и беспросветного погребального визита в Царское Село?
Ответов на эти вопросы нет. Но известен финал чёрной летней полосы в жизни несчастной юной поэтессы Анны Г. Легко догадаться, что финал оказался нехорош. Она была заведомо обречена на гибель, причём не только литературную, но и окончательную, личную.
Дача Пасхалиди на лимане в Евпатории, наверняка, очень напоминала приморскую избушку на Большом Фонтане в Одессе, где семнадцать лет назад начиналась её история. В белые глинобитные стенки были вмазаны железные крюки и корабельные гвозди для удилищ и прочей рыболовной снасти, а также для разной хозяйственной надобности. Один из таких гвоздей, повыше, она и облюбовала.
Нацепила удавку, забралась на принесённый стул или ящик.
Поэтесса Анна Г. повесилась.
Заключение
«Сергей Владимирович, если бы Вы видели, какая я жалкая и ненужная, – писала Ахматова Сергею Штейну из Киева двумя месяцами позже. – Главное не нужная, никому, никогда. Умереть легко. Говорил Вам Андрей, как я в Евпатории вешалась и гвоздь выскочил из известковой стенки? Мама плакала, мне было стыдно – вообще скверно».
«Жалкая», «скверно» – слова в данном случае пустые. Осенью 1906 года бонна Моника доставила в Киев существо, утратившее жизненную волю: «Мой кузен Шутка называет мое настроение “неземным равнодушием”… Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак или едут в театр, и я слушаю тишину в тёмной гостиной… Я всё молчу и плачу, плачу и молчу. Это, конечно, находят странным, но так как других недостатков я не имею, то пользуюсь общим расположением».
«Общее расположение» к «неземной» Ахматовой иссякло в доме на Круглоуниверситетской очень быстро. Евпаторийская гостья оказалась не только подверженной постоянным припадкам чёрной меланхолии, но и обнаруживала явные симптомы какого-то нешуточного физического недуга. У неё повышалась температура, мучили мигрени, резко учащалось сердцебиение («У меня невроз сердца от волнений, вечных терзаний и слёз»). Таким образом, вслед за весенними хлопотами по устроению непутёвой племянницы в Фундуклеевскую гимназию, на долю Вакаров выпали и осенние заботы по её лечению, сопряжённые, наверняка, с некими заметными расходами. Между тем даже условленная сумма на содержание нахлебницы, достигнутая Анной Эразмовной по майским переговорам с сестрой, из Евпатории безнадёжно запаздывала. «Денег нет. Тётя пилит», – вот лаконичный итог первых киевских недель, подведённый Ахматовой в письме, отправленном уже с Меринговской улицы, 7, из квартиры-студии кузины Марии Змунчиллы (по-домашнему «Нани», или «Нанички»).
Мария Александровна Змунчилла была последним, очень поздним ребёнком в долгом и счастливом браке Ии Стоговой и отставного ротмистра Александра Змунчиллы, владевшего имением Литки в той же Деражнянской волости, где в патриархальной Снитовке доживал некогда свой век Эразм Иванович Стогов. В 1863-м Ия Эразмовна утешила любимого отца внуком Эразмом[301], затем (точная дата неизвестна) – внучкой Анной[302]. А до рождения Марии-Нани старик, по-видимому, не дотянул: по расчетам нынешних биографов, она появилась на свет лишь в середине 1880-х, когда супругам Змунчиллам (оба 1836 года рождения) самим переваливало за полсотни. К моменту появления в 1906-м у неё на Меринговской несчастной евпаторийской кузины Мария Александровна, точно, разменяла третий десяток и была вполне самостоятельной особой. Живы ли были её семидесятилетние родители – неизвестно, тут сбивчивая хронология вновь продолжает хромать.
Наника Змунчилла, смуглая брюнетка, с приятной улыбкой и большими кольцами в ушах, была художницей, входила в дружеское окружение Александры (Ади) Григорович-Экстер, державшей вместе с мужем, известным киевским юристом и меценатом Н. Е. Экстером, домашний эстетический салон. Будущее Александры Александровны оказалось фееричным, включая славу одной из главных застрельщиц кубо-футуризма, вдохновительницы уличных вакханалий революционных лет и соратницы неистового режиссера Таирова, отвергавшего все границы допустимого в театральном зрелище. В 1906 году до голых акций под лозунгом «Долой стыд!» и живописной раскраски актрис, щеголявших в костюме Евы, разумеется, ещё не доходило. Однако «левая» богемная вольность в салоне на Фундуклеевской улице ощущалась и тогда. Для всех чудаков, бунтарей и мечтателей, которых беспокойная судьба заносила в Киев, это была и трибуна, и галерея, и театральные подмостки, а часто и убежище от докучливых обстоятельств быта, претензий общества или строгостей российского государства. Вряд ли в приюте подруги Ади Экстер на Меринговской нравы были строже. К тому же весь жизненный уклад подобных художественных мастерских естественно тяготел к особому общинному братству, особо привечая неприхотливых гостей, склонных проводить в мечтах и беседах ночи напролёт. Легко потому представить, что и Ахматова, однажды загостившись у занятной кузины, так и прибилась затем к странноприимной обители. Разумеется, для гимназистки-выпускницы одной из лучших городских гимназий это было сверх всяких правил. Но Вакары, вкусившие забот с бедной родственницей, деликатно закрыли глаза. А Наника, усвоив приёмы богемы, отнеслась к Ахматовой как к симпатичной приблудной собачке: живёт себе и живёт!
В отличие от распорядка в доме Вакаров, заведённого для всех обитателей раз и навсегда с неумолимостью часового механизма, у Наники Змунчиллы торжествовала анархическая свобода. Предоставив кузине кров и возможность столоваться (чем Бог послал), Мария Александровна препоручила остальное естественному ходу событий, нисколько не обременяя младшую компаньонку ни надзором, ни даже присутствием. «Кузина моя, – жаловалась Ахматова, – уехала в имение, прислугу отпустили, и когда я вчера упала в обморок на ковёр, никого не было в целой квартире. Я сама не могла раздеться, а на обоях чудились страшные лица». Её невроз теперь развивался беспрепятственно, и с наступлением зимы с сердцем стало «совсем скверно, и только оно заболит, левая рука совсем отнимается». И всё же, в её тогдашнем положении, неприметное существование в богемном пристанище на Меринговской было, возможно, лучшим выходом.
В Фундуклеевской гимназии со всеми своими болезнями она появлялась редко, вызывая всеобщее любопытство обличием и поведением совершенной «белой вороны». «Даже в мелочах Горенко отличалась от нас, – вспоминает одноклассница. – Все мы, гимназистки, носили одинаковую форму – коричневое платье и чёрный передник определённого фасона. У всех слева на широкой грудке передника вышито стандартного размера красными крестиками обозначение класса и отделения. Но у Горенко материал какой-то особенный, мягкий, приятного шоколадного цвета. И сидит платье на ней как влитое, и на локтях у неё нет заплаток. А безобразие форменной шляпки-“пирожка” на ней незаметно». На уроках «столичная штучка» вела себя непонятно, отпуская вдруг реплики «как во сне», не вставая, «не то ленивым, не то монотонным голосом». Однако странные репризы звучали всегда уместно, обнаруживая незаурядные познания (вновь спасибо Мише Масарскому!), и потому её постоянная больная прострация принималась простодушными киевлянками за особо изысканный подход, сразу выдающий насельницу волшебной и далёкой Северной Пальмиры. Что же касается самой Ахматовой, то она вряд ли могла по достоинству оценить новую гимназию, равно как и приветливую любезность, встречавшую её в школьных классах. Мысли постоянно возвращались к летним дням, заставляя вновь и вновь переживать минувшие кошмары.