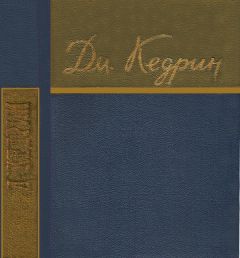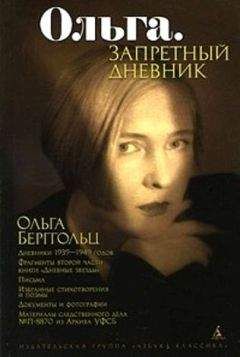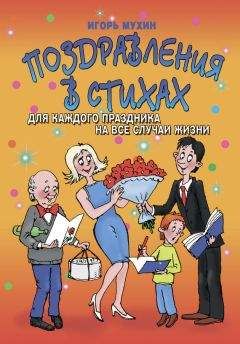Иосиф Бродский - Стихотворения и поэмы (основное собрание)
живут до нас и после нас.
При нас -- отчасти... Жизнь сложна.
Сложны в ней даже наслажденья.
Затем она лишь и нужна,
чтоб праздновать в ней день рожденья!
Зачем еще? Один твердит:
цель жизни -- слава и богатство.
Но слава -- дым, богатство -- гадство.
Твердящий так -- живым смердит.
Другой мечтает жить в глуши,
бродить в полях и все такое.
Он утверждает: цель -- в покое
и в равновесии души.
А я скажу, что это -- вздор.
Пошел он с этой целью к черту!
Когда вблизи кровавят морду,
куда девать спокойный взор?
И даже если не вблизи,
а вдалеке? И даже если
сидишь в тепле в удобном кресле,
а кто-нибудь сидит в грязи?
Все это жвачка: смех и плач,
"мы правы, ибо мы страдаем".
И быть не меньшим негодяем
бедняк способен, чем богач.
И то, и это -- скверный бред:
стяжанье злата, равновесья.
Я -- homo sapiens, и весь я
противоречий винегрет.
Добро и Зло суть два кремня,
и я себя подвергну риску,
но я скажу: союз их искру
рождает на предмет огня.
Огонь же -- рвется от земли,
от Зла, Добра и прочей швали,
почти всегда по вертикали,
как это мы узнать могли.
Я не скажу, что это -- цель.
Еще сравнят с воздушным шаром.
Но нынче я охвачен жаром!
Мне сильно хочется отсель!
То свойства Якова во мне -
его душа и тело или
две цифры -- все воспламенили!
Боюсь, распространюсь вовне.
Опасность эту четко зря,
хочу иметь вино в бокале!
Не то рванусь по вертикали
Двадцать Второго декабря!
Горю! Но трезво говорю:
Твое здоровье, Яков! С Богом!
Да-с, мы обязаны во многом
Природе и календарю.
Игра. Случайность. Может быть,
слепой природы самовластье.
Но разве мы такое счастье
смогли бы логикой добыть?
Жаме! Нас мало, господа,
и меньше будет нас с годами.
Но, дни влача в тюрьме, в бедламе,
мы будем праздновать всегда
сей праздник! Прочие -- мура.
День этот нами изберется
дним Добродушья, Благородства -
Днем Качеств Гордина -- Ура!
1970
-----------------
Дебют
1
Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга,
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина.
А воскресенье началось с дождя,
и гость, на цыпочках прокравшись между
скрипучих стульев, снял свою одежду
с непрочно в стену вбитого гвоздя.
Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая.
Квартира в этот час еще спала.
Она лежала в ванне, ощущая
всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в нее через еще одно
отверстие, знакомящее с миром.
2
Дверь тихо притворившая рука
была -- он вздрогнул -- выпачкана; пряча
ее в карман, он услыхал, как сдача
с вина плеснула в недрах пиджака.
Проспект был пуст. Из водосточных труб
лилась вода, сметавшая окурки.
Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,
и почему-то вдруг с набрякших губ
сорвалось слово (Боже упаси1
от всякого его запечатленья),
и если б тут не подошло такси,
остолбенел бы он от изумленья.
Он раздевался в комнате своей,
не глядя на припахивавший потом
ключ, подходящий к множеству дверей,
ошеломленный первым оборотом.
1970
1 Ранний вариант этой строфы по ЧР: -- С. В.
слетела ругань. Глядя в пустоту,
он покраснел и, осознав нелепость,
так удивился собственному рту,
что врос бы в грунт, не покажись троллейбус.
-----------------
Дерево
Бессмысленное, злобное, зимой
безлиственное, стадии угля
достигнувшее колером, самой
природой предназначенное для
отчаянья, -- которого объем
никак не калькулируется, -- но
в слепом повиновении своем
уже переборщившее, оно,
ушедшее корнями в перегной
из собственных же листьев и во тьму -
вершиною, стоит передо мной,
как символ всепогодности, к чему
никто не призывал нас, несмотря
на то, что всем нам свойственна пора,
когда различья делаются зря
для солнца, для звезды, для топора.
1970
-----------------
Неоконченное
Друг, тяготея к скрытым формам лести
невесть кому -- как трезвый человек
тяжелым рассуждениям о смерти
предпочитает толки о болезни -
я, загрязняя жизнь как черновик
дальнейших снов, твой адрес на конверте
своим гриппозным осушаю паром,
чтоб силы заразительной достичь
смогли мои химические буквы
и чтоб, прильнувший к паузам и порам
сырых листов, я все-таки опричь
пейзажа зимней черноморской бухты,
описанной в дальнейшем, воплотился
в том экземпляре мира беловом,
где ты, противодействуя насилью
чухонской стужи веточкою тирса,
при ощущеньи в горле болевом
полощешь рот аттическою солью.
Зима перевалила через горы
как альпинист с тяжелым рюкзаком,
и снег лежит на чахлой повилике,
как в ожидании Леандра Геро,
зеленый Понт соленым языком
лобзает полы тающей туники,
но дева ждет и не меняет позы.
Азийский ветер, загасив маяк
на башне в Сесте, хлопает калиткой
и на ночь глядя баламутит розы,
в саду на склоне впавшие в столбняк,
грохочет опрокинувшейся лейкой
вниз по ступенькам, мимо цинерарий,
знак восклицанья превращая в знак
вопроса, гнет акацию; две кошки,
составившие весь мой бестиарий,
ныряют в погреб, и терзает звук
в пустом стакане дребезжащей ложки.
Чечетка ставень, взвизгиванье, хаос.
Такое впечатленье, что пловец
не там причалил и бредет задами
к возлюбленной. Кряхтя и чертыхаясь,
в соседнем доме генерал-вдовец
впускает пса. А в следующем доме
в окне торчит заряженное дробью
ружье. И море далеко внизу
ломает свои ребра дышлом мола,
захлестывая гривой всю оглоблю.
И сад стреножен путами лозы.
И чувствуя отсутствие глагола
для выраженья невозможной мысли
о той причине, по которой нет
Леандра, Геро -- или снег, что то же,
сползает в воду, и ты видишь после
как озаряет медленный рассвет
ее дымящееся паром ложе.
Но это ветреная ночь, а ночи
различны меж собою, как и дни.
И все порою выглядит иначе.
Порой так тихо, говоря короче,
что слышишь вздохи камбалы на дне,
что достигает пионерской дачи
заморский скрип турецкого матраса.
Так тихо, что далекая звезда,
мерцающая в виде компромисса
с чернилами ночного купороса,
способна слышать шорохи дрозда
в зеленой шевелюре кипариса.
И я, который пишет эти строки,
в негромком скрипе вечного пера,
ползущего по клеткам в полумраке,
совсем недавно метивший в пророки,
я слышу голос своего вчера,
и волосы мои впадают в руки.
Друг, чти пространство! Время не преграда
вторженью стужи и гуденью вьюг.
Я снова убедился, что природа
верна себе и, обалдев от гуда,
я бросил Север и бежал на Юг
в зеленое, родное время года.
1970
-----------------
Желтая куртка
Подросток в желтой куртке, привалясь
к ограде, а точней -- к орущей пасти
мадам Горгоны, созерцает грязь
проезжей части.
В пустых его зрачках сквозит -- при всей
отчужденности их от мыслей лишних -
унынье, с каковым Персей
смотрел на то, что превратил в булыжник.
Лодыжки, восклицания девиц,
спешащих прочь, не оживляют взгляда;
но вот комочки желтых ягодиц
ожгла сквозь брюки холодом ограда,
он выпрямляется и, миг спустя,
со лба отбрасывая пряди,
кидается к автобусу -- хотя
жизнь позади длиннее жизни сзади.
Прохладный день. Сырое полотно
над перекрестком. Схожее с мишенью
размазанное желтое пятно;
подвижное, но чуждое движенью.
1970
-----------------
Мужик и енот
(басня)
Мужик, гуляючи, забрел в дремучий бор,
где шел в тот миг естественный отбор.
Животные друг другу рвали шерсть,
крушили ребра, грызли глотку,
сражаясь за сомнительную честь покрыть молодку,
чей задик замшевый маячил вдалеке.
Мужик, порывшись в ладном сюртуке,
достал блокнот и карандашик, без
которых он не выходил из дома,
и, примостясь на жертвах бурелома,
взялся описывать процесс:
Сильнейший побеждал. Слабейший
-- нет.
И как бы узаконивая это,
над лесом совершался ход планет,
и с помощью их матового света,