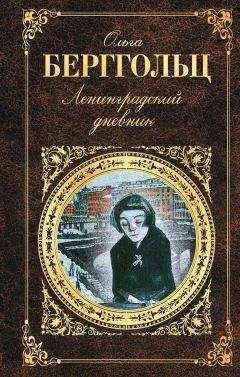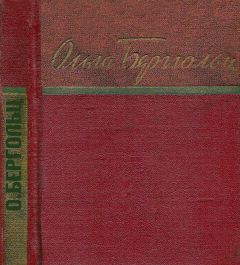Ольга Берггольц - Ольга. Запретный дневник
"Я говорю с тобой под свист снарядов…"
Август 1941 года. Немцы неистово рвутся к Ленинграду. Ленинградцы строят баррикады на улицах, готовясь, если понадобится, к уличным боям.
…Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна…
Кронштадтский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.
Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою:
Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.
ИЗ БЛОКНОТА СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
…Видим — опять надвигается ночь,
и этому не помочь:
ничем нельзя отвратить темноту,
прикрыть небесную высоту…
Я не дома, не города житель,
не живой и не мертвый — ничей:
я живу между двух перекрытий,
в груде сложенных кирпичей…
О, это явь — не чудится, не снится:
сирены вопль, и тихо — и тогда
одно мгновенье слышно — птицы,
птицы поют и свищут в городских садах.
Да, в тишине предбоевой, в печали
так торжествуют хоры вешних птиц,
как будто б рады, что перекричали
огромный город, падающий ниц…
В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят…
Быть может, нас сейчас завалит.
Кругом о бомбах говорят…
…………………………
…Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была…
Да, я солгу, да, я тебе скажу:
«Не знаю, что случилося со мной,
но так легко я по земле хожу,
как не ходила долго и давно.
И так мила мне вся земная твердь,
так песнь моя чиста и высока…
Не потому ль, что в город входит смерть,
а новая любовь недалека?..»
…Сидят на корточках и дремлют
под арками домов чужих.
Разрывам бомб почти не внемлют,
не слышат, как земля дрожит.
Ни дум, ни жалоб, ни желаний…
Одно стремление — уснуть,
к чужому городскому камню
щекой горящею прильнуть…
"И под огнем на черной шаткой крыше…"
И под огнем на черной шаткой крыше
ты крикнул мне,
не отводя лица:
«А если кто-нибудь из нас…
Ты слышишь?
Другой трагедию досмотрит до конца».
Мы слишком рано вышли —
в первом акте,
но помнил ты, что оставлял.
И я не выйду до конца спектакля —
его актер, и зритель, и судья.
Но, Господи, дай раньше умереть,
чем мне сказать
«Не стоило смотреть».
РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ
Пятое декабря 1941 года. Идет четвертый месяц блокады. До пятого декабря воздушные тревоги длились по десять — двенадцать часов. Ленинградцы получали от 125 до 250 граммов хлеба.
Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.
Вот мы прожили почти полгода,
полтораста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа —
наши, Дарья Власьевна, с тобой.
О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба —
он почти не весит на руке…
Для того чтоб жить в кольце блокады,
ежедневно смертный слышать свист —
сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви…
Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
«Вынесу ли? Хватит ли терпенья?»
Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.
Дарья Власьевна, еще немного,
день придет — над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.
И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.
Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной…
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,
будем наслаждаться тишиной.
Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино.
А тебе — да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой.
Нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.
Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом
ты идешь с кошелкою в руке.
Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть — Россия.
Стой же и мужайся, как она!
ВТОРОЕ ПИСЬМО НА КАМУ
…Вот я снова пишу на далекую Каму.
Ставлю дату: двадцатое декабря.
Как я счастлива, что горячо и упрямо
штемпеля Ленинграда на конверте горят.
Штемпеля Ленинграда! Это надо понять.
Все защитники города понимают меня.
Ленинградец, товарищ, оглянись-ка назад,
в полугодье войны, изумляясь себе:
мы ведь смерти самой поглядели в глаза.
Мы готовились к самой последней борьбе.
Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре…
Златосумрачный, царственный листопад,
скрежет первых бомбежек, рыданье сирен,
темно-ржавые контуры баррикад.
Только все, что тогда я на Каму писала,
все, о чем я так скупо теперь говорю, —
ленинградец, ты знаешь, — было только началом,
было только вступленьем к твоему декабрю.
Ленинград в декабре, Ленинград в декабре!
О, как ставенки стонут на темной заре,
как угрюмо твое ледяное жилье,
как врагами изранено тело твое…
Мама, Родина светлая, из-за кольца
ты твердишь:
«Ежечасно гордимся тобой».
Да, мы вновь не отводим от смерти лица,
принимаем голодный и медленный бой.
Ленинградец, мой спутник,
мой испытанный друг,
нам декабрьские дни сентября тяжелей.
Все равно не разнимем
слабеющих рук:
мы и это, и это должны одолеть.
Он придет, ленинградский торжественный
полдень,
тишины, и покоя, и хлеба душистого полный.
О, какая отрада,
какая великая гордость
знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:
— Я жила в Ленинграде
в декабре сорок первого года,
вместе с ним принимала
известия первых побед.
…Нет, не вышло второе письмо
на далекую Каму.
Это гимн ленинградцам — опухшим, упрямым,
родным.
Я отправлю от имени их за кольцо
телеграмму:
«Живы. Выдержим. Победим!»
29 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА