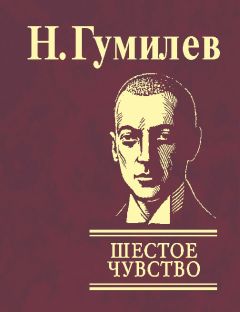Николай Гумилев - Глоток зеленого шартреза
Гумилеву не раз указывали, что его поведение опасно: уже начался террор. Он неизменно отвечал:
– Меня не тронут…
<<…>> Переоценивал свою известность и положение в обществе. Он работал во «Всемирной литературе», был близок к Горькому и считал себя вне опасности. Должен заметить, что никогда я не видел Гумилева таким бодрым, оживленным и даже веселым, как в годы революции. Погибшая монархия сама по себе, но сильнее всего увлекала его мысль о переустройстве общества на каких-то старинных, священных началах… И вот, наконец, представлялась возможность перейти от слова к делу: в России производится гигантский общественный опыт. Кто знает, чем все кончится? Не попытаться ли дать свое направление эксперименту? <<…>>
Дальше разговоров, дальше игры, впрочем, дело не шло. Но игра и погубила Гумилева. В дни Кронштадтского восстания он составил прокламацию, – больше для собственного развлечения, чем для реальных целей. В широковещательном этом «обращении к народу» диктаторским тоном излагались права и обязанности гражданина и перечислялись кары, которые ждут большевиков. Прокламация были написана на листке из блокнота.
Восстание было подавлено. Недели через две Гумилев рассеянно сказал:
– Какая досада. Засунул я этот листок в книгу, не могу теперь найти.
На листке этом был написан его смертный приговор.
* * *Лето 1921 года. Разгромленная, опустошенная петербургская квартира: то продано, это пошло на дрова… Я жил вместе с Георгием Ивановым. Гумилев бывал у нас часто, вместе со своей второй женой, падчерицей Бальмонта.
Однажды он пришел один, просидел несколько часов. Он был в этот день так мил, так грустен и прост, так искренен и умен, что мне и до сих пор думается: только в эти последние несколько часов я действительно узнал его. Воображение иногда добавляет то, что отсутствует на самом деле. Но здесь этого нет. Я ничего не идеализирую сейчас: по случайности, вероятно, наша последняя встреча оказалась такая, – но я счастлив, что именно такой она была.
Гумилев прочел недавно тогда написанное стихотворение, – то, которым открывается «Огненный столп» – свое поэтическое завещание. Потом много и долго говорил, – не совсем так, как всегда, – и больше о жизни, чем о книгах. Вскользь он заметил:
– Пожалуй, моя жизнь не удалась…
Слова необычные для него. Уходя, уже на лестнице, он вспомнил почему-то стихи молодого поэта, Чуковского, сына критика. В стихах воспевалась сладость и прелесть земляничного варенья.
– Очень талантливая книга, – сказал Гумилев. – Только не стоит писать о варенье. Надо писать совсем о другом.
На следующее утро мне позвонили из «Всемирной литературы»: – Знаете, «Шатер» задержан.
У Гумилева есть сборник стихов «Шатер». Как раз в это время печаталось его второе издание. Я подумал, что книга задержана цензурой. Но голос был тревожный, через две-три секунды я все понял. К условным телефонным, разговорам все тогда были приучены.
Его расстрела никто не ждал. Гумилев не имел почти никакого отношения к «таганцевскому делу», по которому был арестован: Горький обещал похлопотать, чтобы его скорее выпустили… только об этом, так как худшее казалось невероятно. Но у всех арестованных был произведен на квартирах обыск. У Гумилева нашли листок с прокламацией, забытый в книге.
Из тюрьмы он просил прислать ему Библию и Гомера. Он, видимо, не волновался за свою участь. Говорят, что вместе с ним в камере находился провокатор, которому он много говорил лишнего. Говорят, что следствие вел какой-то необычайно ловкий следователь, несравненный мастер своего грязного дела. Он будто бы околдовал Гумилева, тот читал ему на допросе стихи, следователь по-братски просил рассказать ему «всю правду» и клялся, что через два-три дня поэт будет выпущен. Говорят, что Гумилев умер с величайшим спокойствием, с величайшим мужеством.
Не обязательно верить всему, что «говорят». Но что Гумилев встретил «высшую меру наказания» с высшей мерой достоинства – в это не верить нельзя.
Обложка книги Н. С. Гумилева «Шатер». Июнь 1918 г.
МОЕ ПРЕКРАСНОЕ УБЕЖИЩЕ
СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ
Я в лес бежал из городов,
В пустыню от людей бежал…
Теперь молиться я готов,
Рыдать, как прежде не рыдал.
Вот я один с самим собой…
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой
Мой выпил мозг, мне выжег грудь.
Я грешник страшный, я злодей:
Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей,
Но растоптал я идеал…
Я мог бороться, но, как раб,
Позорно струсив, отступил
И, говоря: «Увы, я слаб!» –
Свои стремленья задавил…
Я грешник страшный, я злодей…
Прости, Господь, прости меня.
Душе измученной моей
Прости, раскаянье ценя!..
Есть люди с пламенной душой,
Есть люди с жаждою добра,
Ты им вручи свой стяг святой,
Их манит и влечет борьба.
Меня ж прости!..
<<1902>>
С самострелом и стрелами
Через горы и леса
Держит путь стрелок свободный,
Смело глядя в небеса.
Там, где, с высей низвергаясь,
Мутный плещется поток,
Где так жарко греет солнце,
Там царем один стрелок.
И своей стрелою меткой
Он разит издалека.
Лучше денег, лучше власти
Жизнь веселая стрелка.
<<Не позднее 1903>>
Я вечернею порою над заснувшею рекою,
Полон дум необъяснимых, всеми кинутый, брожу.
Точно дух ночной, блуждаю, встречи радостной не знаю,
Одиночества дрожу.
Слышу прошлые мечтанья, и души моей страданья
С новой силой, с новой злобой у меня в груди встают.
С ними я окончил дело, сердце знать их не хотело,
Но они его гнетут.
Нет, довольно мне страданий, больше сладких упований
Не хочу я, и в бесстрастье погрузиться я хочу.
Дайте прошлому забвенье, к настоящему презренье,
И я в небо улечу.
Но напрасны все усилья: тесно связанные крылья
Унести меня не могут с опостылевшей земли.
Как и все мои мечтанья, мои прежние страданья
Позабыться не могли.
<<Не позднее 1903>>
Люблю я чудный горный вид,
Остроконечные вершины,
Где каждый лишний шаг грозит
Несвоевременной кончиной.
Люблю над пропастью глухой
Простором дали любоваться
Или неверною тропой
Все выше, выше подниматься.
В горах мне люб и Божий свет,
Но люб и смерти миг единый!
Не заманить меня вам, нет,
В пустые, скучные долины.
<<Не позднее 1903>>
У скалистого ущелья
Одинокий я стоял,
Предо мной поток нагорный
И клубился, и сверкал.
Из-за туч, кроваво-красна,
Светит полная луна,
И в волнах потока мутных
Отражается она.
И какие-то виденья
Все встают передо мной,
То над волнами потока,
То над пропастью глухой.
Ближе, ближе подлетают.
Наконец – о, страшный вид! –
Пред смущенными очами
Вереница их стоит.
И как вглядываюсь ближе,
Боже, в них я узнаю
Свои прежние мечтанья,
Молодую жизнь свою.
И все прошлые желанья,
И избыток свежих сил,
Все, что с злобой беспощадной
В нас дух века загубил.
Все, что продал я, прельстившись
На богатство и почет,
Все теперь виденьем грозным
Предо мною предстает.
Полон грусти безотрадной,
Я рыдаю, и в горах
Эхо громко раздается,
Пропадая в небесах.
<<Не позднее 1903>>
Младой францисканец безмолвно сидит,
Объятый бесовским волненьем.
Он книгу читает, он в книге чертит,
И ум его полон сомненьем.
И кажется тесная келья ему
Унылей, угрюмее гроба,
И скучно, и страшно ему одному,
В груди подымается злоба.
Он мало прожил, мало знает он свет,
Но чудные знает преданья
О страшных влияньях могучих планет,
О тайнах всего мирозданья.
Но все опостылело в жизни ему
Без горя и радостей света.
Так в небе, внезапно прорезавши тьму,
Мелькает златая комета,
И, после себя не оставив следа,
В пространстве небес исчезает,
Так полная сил молодая душа
Бесплодно в стенах изнывает.
Младой францисканец безмолвно сидит,
Главу уронивши на руки,
Он книгу отбросил и в ней не чертит,
Исполнен отчаянной муки.
«Нет, полно, – вскричал он, – начну жить и я,
Без радостей жизнь да не вянет.
Пускай замолчит моей грусти змея
И сердце мне грызть перестанет.
Бегу из монашеских душных я стен,
Как вор, проберуся на волю,
И больше, о нет, не сменяю на плен
Свободную, новую долю».
Суров инквизитор великий сидит,
Теснятся кругом кардиналы,
И юный преступник пред ними стоит,
Свершивший проступок немалый.
Он бегство затеял из монастыря
И пойман был с явной уликой,
Но с сердцем свободным, отвагой горя,
Стоит он, бесстрашный, великий.
Вот он пред собраньем ведет свою речь,
И судьи, смутяся, робеют,
И стража хватается гневно за меч,
И сам инквизитор бледнеет.
«Судить меня смеют, и кто же – рабы!
Прислужники римского папы
Надменно и дерзко решают судьбы
Того, кто попался им в лапы.
Ну что ж! Осудите меня на костер,
Хвалитеся мощью своею!
Но знайте, что мой не померкнется взор,
Что я не склоню свою шею!
И смерть моя новых борцов привлечет,
Сообщников дерзких, могучих;
Настанет и вашим несчастьям черед!
Над вами сбираются тучи!
Я слышал: в далеких германских лесах,
Где все еще глухо и дико,
Поднялся один благородный монах,
Правдивою злобой великий.
Любовию к жизни в нем сердце горит!
Он юности ведает цену!
Блаженства небес он людям не сулит
Земному блаженству в замену!
А вы! Ваше время давно отошло!
Любви не вернете народа.
Да здравствует свет, разгоняющий зло!
Да здравствует наша свобода!
Прощайте! Бесстрашно на казнь я иду.
Над жизнью моею вы вольны,
Но речи от сердца сдержать не могу,
Пускай ею вы недовольны».
<<Не позднее 1903>>
Вам, кавказские ущелья,
Вам, причудливые мхи,
Посвящаю песнопенья,
Мои лучшие стихи.
Как и вы, душа угрюма,
Как и вы, душа мрачна,
Как и вы, не любит шума,
Ее манит тишина.
Буду помнить вас повсюду,
И хоть я в чужом краю,
Но о вас я не забуду
И теперь о вас пою.
<<Не позднее 1903>>
На сердце песни, на сердце слезы,
Душа страданьями полна.
В уме мечтанья, пустые грезы
И мрак отчаянья без дна.
Когда же сердце устанет биться,
Грудь наболевшая замрет?
Когда ж покоем мне насладиться
В сырой могиле придет черед?
<<Не позднее 1903>>
В шумном вихре юности цветущей
Жизнь свою безумно я сжигал,
День за днем, стремительно бегущий,
Отдохнуть, очнуться не давал.
Жить, как прежде, больше не могу я,
Я брожу как охладелый труп,
Я томлюсь по ласке поцелуя,
Поцелуя милых женских губ.
<<Не позднее 1903>>
Злобный гений, царь сомнений,
Ты опять ко мне пришел,
И, желаньем утомленный, потревоженный и сонный,
Я покой в тебе обрел.
Вечно жить среди мучений, среди тягостных
сомнений –
Это сильных идеал,
Ничего не созидая, ненавидя, презирая
И блистая, как кристалл.
Назади мне слышны стоны, но, свободный,
обновленный,
Торжествующая пошлость, я давно тебя забыл.
И, познавши отрицанье, я живу, как царь созданья,
Средь отвергнутых могил.
<<Не позднее 1903 >>
Много в жизни моей я трудов испытал,
Много вынес и тяжких мучений.
Но меня от отчаянья часто спасал
Благодатный, таинственный гений.
Я не раз в упоеньи великой борьбы
Побеждаем был вражеской силой
И не раз под напором жестокой судьбы
Находился у края могилы.
Но отчаянья не было в сердце моем,
И надежда мне силы давала.
И я бодро стремился на битву с врагом,
На борьбу против злого начала.
А теперь я, наскучив тяжелой борьбой,
Безмятежно свой век доживаю,
Но меня тяготит мой позорный покой,
И по битве я часто вздыхаю.
Чудный гений надежды давно отлетел,
Отлетели и светлые грезы,
И осталися трусости жалкой в удел
Малодушно-холодные слезы.
<<Не позднее 1903 >>
Я всю жизнь отдаю для великой борьбы,
Для борьбы против мрака, насилья и тьмы.
Но увы! окружают меня лишь рабы,
Недоступные светлым идеям умы.
Они или холодной насмешкой своей,
Или трусостью рабской смущают меня,
И живу я, во мраке не видя лучей
Благодатного, ясного, светлого дня.
Но меня не смутить, я пробьюся вперед
От насилья и мрака к святому добру,
И, завидев светила свободы восход,
Я спокоен умру.
<<Не позднее 1903 >>
Во мраке безрадостном ночи,
Душевной больной пустоты,
Мне светят лишь дивные очи
Ее неземной красоты.
За эти волшебные очи
Я с радостью, верь, отдаю
Мое наболевшее сердце,
Усталую душу мою.
За эти волшебные очи
Я смело в могилу сойду,
И первое, лучшее счастье
В могиле сырой я найду.
А очи, волшебные очи
Так грустно глядят на меня,
Исполнены тайной печали,
Исполнены силой огня.
Напрасно родятся мечтанья,
Напрасно волнуется кровь:
Могу я внушить состраданье,
Внушить не могу я любовь.
Летит равнодушное время
И быстро уносится вдаль,
А в сердце холодное бремя,
И душу сжигает печаль.
<<Не позднее 1903 >>
М. М. М <<аркс >>