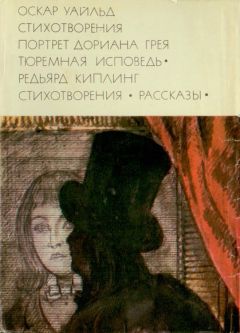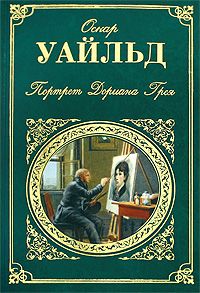Оскар Уайльд - Стихотворения. Портрет Дориана Грея. Тюремная исповедь; Стихотворения. Рассказы
TAEDIUM VIТАЕ17
Ножами юность заколоть, ходить
В твоей ливрее, худший из веков,
Дать всякой мрази красть из тайников
И в петли женских прядей угодить, —
Да просто за конюшнями ходить
В лакеях у Фортуны! Не таков!
Все это жалче пенных гребешков,
Чертополошин: близко подходить
Не собираюсь к своре дураков,
Что, зло смеясь, пускают гнусный слух,
Меня не зная вовсе. Батраков
Приют — он лучше, чем возврат в тот сброд,
Охрипший в спорах, где мой белый дух
С грехом впервые целовался в рот.
ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ18
Ты знаешь все. А я всерьез
Ищу — в какую почву сеять, —
Но ей милей пырей лелеять,
Без ливня и без ливня слез.
Ты знаешь все. Я — слепота,
Я — немощь, сидя жду, как снова
Мне за последней мглой покрова
Впервые отопрут врата.
Ты знаешь все. Слепец, увечность —
Я льщусь мечтой не жить напрасно,
Вот все, что знаю я прекрасно:
Опять мы встретимся, где вечность.
IMPRESSIONS19
Увядшей лилии венец
На стебле тускло-золотом.
Мелькает голубь над прудом,
На буках — тлеющий багрец.
Подсолнух львино-золотой
На пыльном стержне почернел,
Среди деревьев и омел
Кружится листьев мертвый рой.
Слетают снегом лепестки
С молочно-белых бирючин.
Головки роз и георгин —
Как шелка алого клочки.
На вантах ледяной покров,
Морозный прах окутал нас.
Луна — как злобный львиный глаз
Под рыжей гривой облаков.
Стоит угрюмый рулевой,
Как призрак, в сумраке седом,
А в кочегарке чад и гром,
Слепит машины блеск стальной.
Свирепый шторм утих везде,
Но все вздымается простор;
Как рваный кружевной узор,
Желтеет пена на воде.
ДОМ ШЛЮХИ22
Мы услыхали танца вскрик,
Качнулся в небе лунный лик,
Плясали гости в доме шлюхи.
И музыканты, захмелев,
Вертели Штрауса напев,
Порой звенели оплеухи.
Как арабесковый кошмар
Роился танец странных пар,
За тканью штор скользили тени.
Визжали скрипки, ныл фагот,
Кружился рваный хоровод,
Как черных листьев мельтешенье.
Марионеток хриплый рой,
Расплывчатых скелетов строй
Во власти медленной кадрили.
Две куклы из нелепых снов,
Как две фигурки из часов,
Игрушечно обнявшись, плыли.
Зловещий, призрачный герой
Курил в раздумье, как живой,
У покосившейся веранды.
Вдруг смех и брань оборвались,
Все чинно за руки взялись
Под звуки мерной сарабанды.
И я сказал любви моей:
«Бал мертвецов среди огней,
Кружится пепел с пылью тленной!»
Но ты, но ты ушла, смеясь,
Крикливой похотью пленясь,
И дверь захлопнулась мгновенно.
Оркестр фальшивил все сильней,
Вальс фантастических теней
Стал прерываться. Гасли свечи…
По длинной улице пустой
В тунике с золотой каймой
Заря несмело шла навстречу.
ПО ПОВОДУ ПРОДАЖИ С АУКЦИОНА ЛЮБОВНЫХ ПИСЕМ ДЖОНА КИТСА23
Вот письма, что писал Эндимион,24 —
Слова любви и нежные упреки,
Взволнованные, выцветшие строки,
Глумясь, распродает аукцион.
Кристалл живого сердца раздроблен
Для торга без малейшей подоплеки.
Стук молотка, холодный и жестокий,
Звучит над ним как погребальный звон.
Увы! не так ли было и вначале:
Придя средь ночи в фарисейский град,
Хитон делили несколько солдат,25
Дрались и жребий яростно метали,
Не зная ни Того, Кто был распят,
Ни чуда Божья, ни Его печали.
СИМФОНИЯ В ЖЕЛТОМ26
Ползет, как желтый мотылек,
Высокий омнибус с моста,
Кругом прохожих суета —
Как мошки, вьются вдоль дорог.
Покинув сумрачный причал,
Баржа уносит желтый стог.
Как шелка желтого поток,
Туман дома запеленал.
И с желтых вязов листьев рой
У Темпла пасмурно шуршит,
Мерцает Темза, как нефрит,
Зеленоватой желтизной.
БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ27
Гвардейца красит алый цвет,
Да только не такой.
Он пролил красное вино
И кровь лилась рекой,
Когда любимую свою
Убил своей рукой.
Он вышел на тюремный двор,
Одет в мышиный цвет,
Легко ступал он, словно шел
На партию в крикет,
Но боль была в его глазах,
Какой не видел свет.
Но боль, какой не видел свет,
Плыла, как мгла из глаз,
Уставленных в клочок небес,
Оставленный для нас,
То синий и таинственный,
То серый без прикрас.
Был час прогулки. Подышать
Нас вывели во двор.
Гадал я, глядя на него:
Вандал? Великий вор?
Вдруг слышу: «Вздернут молодца,
И кончен разговор».
О боже! Стены, задрожав,
Распались на куски,
И небо пламенным венцом
Сдавило мне виски,
И сгинула моя тоска
В тени его тоски.
Я понял, как был легок шаг —
Шаг жертвы — и каким
Гнетущим страхом он гоним,
Какой тоской томим:
Ведь он любимую убил,
И казнь вершат над ним.
Любимых убивают все,
Но не кричат о том.
Издевкой, лестью, злом, добром,
Бесстыдством и стыдом,
Трус — поцелуем похитрей,
Смельчак — простым ножом.
Любимых убивают все,
Казнят и стар и млад,
Отравой медленной поят
И Роскошь, и Разврат,
А Жалость — в ход пускает нож,
Стремительный, как взгляд.
Любимых убивают все —
За радость и позор,
За слишком сильную любовь,
За равнодушный взор,
Все убивают — но не всем
Выносят приговор.
Не всем постыдной смерти срок
Мученье назовет,
Не всем мешок закрыл глаза
И петля шею рвет,
Не всем — брыкаться в пустоте
Под барабанный счет.
Не всем молчанье Сторожей —
Единственный ответ
На исступленную мольбу,
На исступленный бред,
А на свободу умереть —
Безжалостный запрет.
Не всем, немея, увидать
Чудовищный мираж:
В могильно-белом Капеллан,
В могильно-черном Страж,
Судья с пергаментным лицом
Взошли на твой этаж.
Не всем — тюремного Врача
Выдерживать осмотр.28
А Врач брезгливо тороплив
И безразлично бодр,
И кожаный диван в углу
Стоит как смертный одр.
Не всем сухой песок тоски
Иссушит жаждой рот:
В садовничьих перчатках, прост,
Палач к тебе войдет,
Войдет — и поведет в ремнях,
И жажду изведет.
Не всех при жизни отпоют.
Не всем при сем стоять.
Не всем, пред тем, как умереть,
От страха умирать.
Не всем, на смерть идя, свою
Могилу увидать.
Не всех удушье захлестнет
Багровою волной,
Не всех предательски казнят
Под серою стеной,
Не всех Кайафа29 омочил
Отравленной слюной.
И шесть недель гвардеец ждал,
Одет в мышиный цвет,
Легко ступал он, словно шел
На партию в крикет,
Но боль была в его глазах,
Какой не видел свет.
Но боль, какой не видел свет,
Плыла, как мгла из глаз,
Уставленных в клочок небес,
Оставленный для нас,
То розовый и радостный,
То серый без прикрас.
Рук не ломал он, как иной
Глупец себя ведет,
Когда Отчаянье убьет
Надежды чахлый всход, —
Он тихим воздухом дышал,
Глядел на небосвод.
Рук не ломал он, не рыдал,
Не плакал ни о чем,
Но воздух пил и свет ловил
Полураскрытым ртом,
Как будто луч лился из туч
Лекарственным вином.
Мы в час прогулки на него
Смотрели, смущены,
И забывали, кем и как
Сюда заключены,
За что, насколько. Только мысль:
Его казнить должны.
Мы холодели: он идет,
Как на игру в крикет.
Мы холодели: эта боль,
Какой не видел свет.
Мы холодели: в пустоту
Ступить ему чуть свет.
В зеленых листьях дуб и вяз
Стоят весной, смеясь,
Но древо есть, где листьев несть,
И все ж, за разом раз,
Родится Плод, когда сгниет
Жизнь одного из нас.
Сынов Земли всегда влекли
Известность и успех,
Но нашумевший больше всех,
Взлетевший выше всех
Висит в петле — и на Земле
Прощен не будет Грех.
Весною пляшут на лугу
Пасту́шки, пастушки́,
Порою флейты им поют,
Порой поют смычки.
Но кто б из нас пустился в пляс
Под пение Пеньки?
И мы дрожали за него
И в яви и во сне:
Нам жить и жить, ему — застыть
В тюремной вышине.
В какую тьму сойти ему?
В каком гореть огне?
И вот однажды не пришел
Он на тюремный двор,
Что означало: утвержден
Ужасный приговор,
Что означало: мне его
Не встретить с этих пор.
Два чёлна в бурю; две судьбы
Свел на мгновенье Рок.
Он молча шел, я рядом брел,
Но что сказать я мог?
Не в ночь святую мы сошлись,
А в день срамных тревог.
Две обреченные души —
Над нами каркнул вран.
Бог исцеляющей рукой
Не тронул наших ран.
Нас Мир изгнал, нас Грех избрал
И кинул в свой капкан.
Тут камень тверд, и воздух сперт,
И в окнах — частый прут.
Глядел в глухой мешок двора
И смерти ждал он тут,
Где неусыпно сторожа
Жизнь Смертника блюдут.
И лишь молчанье да надзор —
Единственный ответ
На исступленную мольбу,
На исступленный бред,
А на свободу умереть —
Безжалостный запрет.
Продумали до мелочей
Постыдный ритуал.
«Смерть — натуральнейшая вещь», —
Тюремный врач сказал,
И для Убийцы капеллан
Из Библии читал.
А тот курил, и пиво пил,
И пену с губ стирал,
И речь о каре и грехе
Презрением карал,
Как будто, жизнь теряя, он
Немногое терял.
Он смерти ждал. И страж гадал,
Что́ происходит с ним.
Но он сидел, невозмутим,
И страж — невозмутим:
Был страж по должности молчун,
По службе нелюдим.
А может, просто не нашлось
Ни сердца, ни руки,
Чтоб хоть чуть-чуть да разогнуть
Отчаянья тиски?
Но чья тоска так велика?
Чьи руки так крепки?
Оравой ряженых во двор,
Понурясь, вышли мы.
Глупа, слепа — идет толпа
Подручных Князя Тьмы.
Рукой Судьбы обриты лбы
И лезвием тюрьмы.
Мы тянем, треплем, вьем канат
И ногти в кровь дерем,
Проходим двор и коридор
С мочалом и с ведром,
Мы моем стекла, чистим жесть
И дерево скребем.
Таскаем камни и мешки —
И льется пот ручьем,
Плетем и шьем, поем псалмы,
Лудим, паяем, жжем.
В таких трудах забылся страх,
Свернулся в нас клубком.
Спал тихо Страх у нас в сердцах,
Нам было невдомек,
Что тает Срок и знает Рок,
Кого на смерть обрек.
И вдруг — могила во дворе
У самых наших ног.
Кроваво-желтым жадным ртом
Разинулась дыра.
Вопила грязь, что заждалась,
Что жертву жрать пора.
И знали мы: дождавшись тьмы,
Не станут ждать утра.
И в душах вспыхнули слова:
Страдать. Убить. Распять.
Палач прошествовал, неся
Свою простую кладь.
И каждый, заперт под замок,
Не мог не зарыдать.
В ту ночь тюрьма сошла с ума,
В ней выл и веял Страх —
Визжал в углах, пищал в щелях,
Орал на этажах
И за оконным решетом
Роился в мертвецах.
А он уснул — уснул легко,
Как путник, утомясь;
За ним следили Сторожа
И не смыкали глаз,
Дивясь, как тот рассвета ждет,
Кто ждет в последний раз.
Зато не спал, не засыпал
В ту ночь никто из нас:
Пройдох, мошенников, бродяг
Единый ужас тряс,
Тоска скребла острей сверла:
Его последний час.
О! Есть ли мука тяжелей,
Чем мука о другом?
Его вина искуплена
В страдании твоем.
Из глаз твоих струится боль
Расплавленным свинцом…
Неслышно, в войлочных туфлях,
Вдоль камер крался страж
И видел, как, упав во мрак,
Молился весь этаж —
Те, чей язык давно отвык
От зова «Отче наш».
Один этаж, другой этаж —
Тюрьма звала Отца,
А коридор — как черный флер
У гроба мертвеца,
И губка с губ Его прожгла
Раскаяньем сердца.
И Серый Кочет пел во тьме,
И Красный Кочет пел —
Заря спала, тюрьма звала,
Но мрак над ней чернел,
И духам Дна сам Сатана
Ворваться к нам велел.
Они, сперва едва-едва
Видны в лучах луны,
Облиты злой могильной мглой,
Из тьмы, из глубины
Взвились, восстали, понеслись,
Бледны и зелены.
Парад гримас и выкрутас,
И танца дикий шквал,
Ужимок, поз, ухмылок, слез
Бесовский карнавал,
Аллюр чудовищных фигур,
Как ярость, нарастал.
Ужасный шаг звенел в ушах,
В сердца вселился Страх,
Плясал народ ночных урод,
Плясал и пел впотьмах,
И песнь завыл, и разбудил
Кладбищ нечистый прах:
«О! мир богат, — глумился Ад, —
Да запер все добро.
Рискни, сыграй: поставь свой рай
На Зло и на Добро!
Но шулер Грех обставит всех,
И выпадет Зеро!»
Толпу химер и эфемер
Дрожь хохота трясла.
Сам Ад явился в каземат,
Сама стихия Зла.
О кровь Христа! ведь неспроста
Забагровела мгла.
Виясь, виясь — то возле нас,
То удалясь от нас,
То в вальс изысканный пустясь,
То нагло заголясь,
Дразнили нас, казнили нас —
И пали мы, молясь.
Рассветный ветер застонал,
А ночь осталась тут,
И пряжу черную свою
Скрутила в черный жгут;
И думали, молясь: сейчас
Начнется Страшный суд!
Стеная, ветер пролетал
Над серою стеной,
Над изревевшейся тюрьмой,
Над крышкой гробовой.
О ветр! вигилии твоей
Достоин ли живой?
Но вот над койкой в три доски
Луч утра заиграл,
Узор решетчатый окна
На стенах запылал,
И знал я: где-то в мире встал
Рассвет — кровав и ал.
Мы в шесть уборкой занялись,
А в семь порядок был…
Но в коридорах шорох плыл
Зальделых белых крыл —
То Азраил из тьмы могил
За новой жертвой взмыл.
Палач пришел не в кумаче,
И в стойле спал Конь Блед;
Кусок пеньки да две доски —
И в этом весь секрет;
Но тень Стыда, на день Суда,
Упав, затмила свет…
Мы шли, как те, кто в темноте
Блуждает вкривь и вкось,
Мы шли, не плача, не молясь,
Мы шли и шли, как шлось,
Но то, что умирало в нас,
Надеждою звалось.
Ведь Правосудие идет
По трупам, по живым.
Идет, не глядя вниз, идет
Путем, как смерть, прямым;
Крушит чудовищной пятой
Простертых ниц пред ним.
Мы ждали с ужасом Восьми.
Во рту — сухой песок.
Молились мы Восьми: возьми
Хоть наши жизни, Рок!
Но Рок молитвой пренебрег.
Восьмой удар — в висок.
Нам оставалось лишь одно —
Лежать и ждать конца.
Был каждый глух, и каждый дух
Был тяжелей свинца.
Безумье било в барабан —
И лопались сердца.
И пробил час, и нас затряс
Неслыханный испуг.
И в тот же миг раздался крик30
И барабанный стук —
Так, прокаженного прогнав,
Трещотки слышат звук.
И мы, не видя ничего,
Увидели: крепит
Палач доску и вьет пеньку
И вот Ошейник свит.
Взмахнет рукой, толкнет ногой —
И жертва захрипит.
Но этот крик и этот хрип
Звучат в ушах моих,
И ураганный барабан,
Затихнув, не затих:
Кто много жизней проживет,
Умрет в любой из них.
В день казни церковь заперта,
Молебен отменен;
Несчастный, бродит капеллан,
Людей стыдится он,
И главное, нет сил взглянуть
На божий небосклон.
Нас продержали под замком
До сумерек; потом,
Как спохватившись, принялись
Греметь в дверях ключом
И на прогулку повели
Унылым чередом.
Мы вышли старцами во двор —
Как через сотню лет,
Одеты страхом; на щеках
Расцвел мышиный цвет,
И боль была у нас в глазах,
Какой не видел свет.
Да, боль, какой не видел свет,
Плыла, как мгла из глаз,
Уставленных в клочок небес,
Оставленный для нас,
Все видевший воочию
И серый без прикрас.
Был час прогулки. Но никто
Не смел взглянуть на Твердь:
Все видит совесть, а суды —
Слепая пустоверть.
Он жизнь убийством осквернил,
А мы — притворством — смерть.
Две казни намертво связав,
Он мертвых разбудил —
И встали в саванах они,
И те, кто их убил, —
И кровь на кровь взглянула вновь,
Ударив из могил!
Мы — обезьяны и шуты —
Угрюмо шли двором,
За кругом круг, за кругом круг
Мы молча шли кругом,
За кругом круг, за кругом круг
В молчанье гробовом.
Мы шли и шли за кругом круг
В рыдающих рядах,
Не в силах Ужаса унять,
Стряхнуть не в силах страх;
Ревела Память в грозный рог,
Рок волком выл в сердцах.
Мы шли, как стадо, — пастухи
Пасли овец своих —
В парадной форме, в орденах,
В нашивках послужных.
Замызганные сапоги
Изобличали их.
Заделан был вчерашний ров,
Залатан впопыхах —
Осталась грязь на мостовой
И грязь на сапогах,
Да малость извести сырой
Там, где зарыли прах.
Зарыт он в известь навсегда —
До Страшного суда,
Зарыт, раздетый догола
Для вящего стыда,
И пламя извести сырой
Не стихнет никогда!
Пылает пламя, пламя жжет —
И кость, и мясо жрет:
Жрет мясо нежное с утра,
А ночью — кость жует,
Жрет мясо летом, кость — зимой,
А сердце — круглый год!
Три долгих года не расти
Над известью цветам,
Три долгих года не закрыть,
Не спрятать этот срам,
Три долгих года будет лыс
Незалечимый шрам.
Решили: землю осквернил
Убийца и злодей!
Но божьей милостью Земля
Мудрее и добрей:
Здесь алым розам — цвесть алей,
А белым — цвесть белей.
Из уст его — куст алых роз!
Из сердца — белых роз!
Когда, к кому, в какую тьму
Решит сойти Христос,
Дано ль узнать? —
Смотри, опять
Цветами жезл пророс!..
Ни алых роз, ни белых роз
Не сыщешь днем с огнем
В тюрьме, где камень и асфальт
Посажены кругом,
Чтоб человека извести
Неверьем и стыдом.
Ни белых роз, ни алых роз
Не сыщешь ты окрест;
Лишь грязь, да известь, да асфальт —
Растенья здешних мест,
И непонятно, за кого
Христос взошел на крест…
Но пусть в геенну брошен он
И в пламени зарыт,
И дух больной в ночи святой
Из тьмы не воспарит,
И может лишь в глухую тишь
Кричать, что в скверне спит, —
Он мир обрел — уже обрел
Иль скоро обретет:
Туда, где спит, не ступит Стыд
И Страх не добредет —
Бессолнечная тьма вокруг,
Безлунный небосвод…
Как зверя, вешали его,
Зверьем над ним дыша,
Не в реквиеме прах почил
И вознеслась душа.
Как будто тронули его
Проказа и парша.
Полуостывший страшный труп
Швырнули в ров нагим,
Глумясь над мертвенным лицом,
Над взором неживым,
Любуясь жадной суетой
Мух, вьющихся над ним.
На этой тризне капеллан
Не спел за упокой,
Не помахал своим крестом
Над известью сырой, —
Но ради грешников взошел
Христос на крест мирской!
И пусть мучения земли
Он знает наизусть,
И пусть он проклят, и забыт,
И не оплакан — пусть!
Есть грусть — но не земная грусть,
А грусть Небес — не грусть.
Есть неизбывная вина
И муки без вины, —
И есть Закон, и есть — Загон,
Где мы заточены,
Где каждый день длинней, чем год
Из дней двойной длины.
Но с незапамятных времен
Гласит любой закон
(С тех пор, как первый человек
Был братом умерщвлен),
Что будут зерна сожжены,
А плевел пощажен.
Но с незапамятных времен —
И это навсегда —
Возводят тюрьмы на земле
Из кирпичей стыда,
И брата брат упрятать рад —
С глаз Господа — туда.
На окна — ставит частый прут,
На дверь — глухой запор,
Тут брату брат готовит ад,
Во тьме тюремных нор,
Куда ни солнцу заглянуть,
Ни богу бросить взор.
Здесь ядовитою травой
Предательство растят,
А чувства чистого росток —
Задушат и растлят,
Здесь Низость царствует, а Страх,
Как страж, стоит у врат.
Здесь тащат хлеб у тех, кто слеп,
Здесь мучают детей,
Здесь кто сильней, тот и вольней,
Забиты, кто слабей,
Но Разум нем, здесь худо всем —
В безумье бы скорей!
Любой из нас в тюрьме завяз,
Как в яме выгребной,
Здесь бродит Смерть, худа, как жердь,
И душит крик ночной,
Здесь вечный смрад, здесь и разврат —
Не тот, что за стеной.
Здесь пахнет плесенью вода
И слизью лезет в рот,
Любой глоток, любой кусок
Известкой отдает,
Здесь, бесноватый, бродит сон
И кровь людей сосет.
Здесь Голод с Жаждой — две змеи
В змеилище одном,
Здесь души режет Хлеборез
Заржавленным ножом,
И ночью злобу и тоску
Мы, как лампаду жжем.
Здесь мысли — камня тяжелей,
Который грузим днем;
Лудим, паяем, жжем, поем
Унылым чередом;
Здесь и ночная тишина
Гремит страшней, чем гром.
Здесь человеческая речь —
Нечеловечья речь,
Здесь глаз в глазке и хлыст в руке
Спешат стеречь и сечь;
Забитые, убитые,
Мы в гроб готовы лечь.
Здесь Жизнь задавлена в цепях,
Кляп у нее во рту;
Один кричит, другой молчит —
И всем невмоготу,
И не надеется никто
На божью доброту.
Но божий глас дойдет до нас —
Бог разобьет сердца:
Сердца, что камня тяжелей,
Сердца темней свинца, —
И прокаженным мертвецам
Предстанет Лик Творца.
Затем и созданы сердца,
Что можно их разбить.
Иначе б как развеять мрак
И душу сохранить?
Иначе кто б, сойдя во гроб,
Мог вечности вкусить?
И вот он, с мертвенным лицом
И взором неживым,
Все ждет Того, кто и его
Простит, склонясь над ним, —
Того, кем Вор спасен, Того,
Кем Человек любим.
Он три недели смерти ждал, —
Так суд постановил, —
И три недели плакал он,
И три недели жил,
И, скверну смыв и грех избыв,
На эшафот вступил.
Он плакал, кровь смывая с рук, —
И кровью плакал он —
Ведь только кровь отмоет кровь
И стон искупит стон:
Над Каина кровавой тьмой
Христос — как снежный склон.
Есть яма в Редингской тюрьме —
И в ней схоронен стыд;
Там пламя извести горит,
Там человек лежит,
В горючей извести зарыт,
Замучен и забыт.
Пускай до Страшного суда
Лежит в молчанье он.
Пускай ни вздохом, ни слезой
Не будет сон смущен:
Ведь он любимую убил,
И суд над ним свершен…
Любимых убивают все,
Но не кричат о том, —
Издевкой, лестью, злом, добром,
Бесстыдством и стыдом,
Трус — поцелуем похитрей,
Смельчак — простым ножом.
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ31