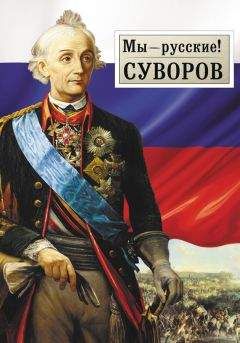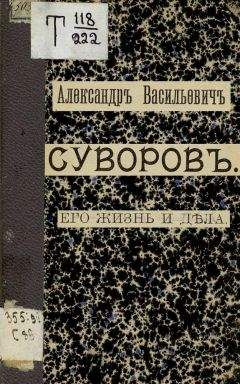Андрей Белянин - Пастух медведей
Ларисе В.
В зеленой мраморной комнате
Продуманность — невзначай.
Там были всегда, Вы помните?
Поэмы Лорки и… чай.
За боль и печаль возмездием
Плыл запах увядших роз,
А в окнах цвели созвездия
Осколками прошлых грез.
Витало там вдохновение,
Но думалось об одном:
Какие глаза оленьи
У девушки в доме том…
И вновь переходим к шепоту,
Где мы почти на «ты»,
Словно к волшебному омуту
Нежности и доброты.
В зеленой мраморной комнате
Витает в обрывках снов
Великая и непонятная
Такая земная любовь…
Что-то душно мне сегодня и невесело:
Накатила боль-тоска, их величество:
Ночь сырая. И трава пахнет плесенью…
И весь вечер чей-то взгляд в спину тычется.
А возьмусь за карандаш, — и немедленно
Так и прет из-под руки вся нелепица:
Средь болотных камышей рожа ведьмина
И кошачии глаза так и светятся!
Хороша, как херувим… Даже с рожками.
А коль их спилить, — тогда вовсе лапушка…
И ведет меня кривой дорожкою
По болотам, по пескам, да по камушкам.
Я и вправду не встречал, чтоб — красивее,
Только сердце злая боль жмет и комкает,
И ржавеет за окном небо синее, —
Запах серы с губ ее бродит в комнатах.
Рву бумагу и — в рассвет, ясный, ветреный!
За стеклом фонарный свет надоедливый,
Жаркий оттиск женских губ — ало-пепельный,
Да зеленые глаза — тают медленно…
«Натурщица…» На-ту-р-щи-ца! Взгляните?!
Вся голая, и, нате вам, — стоит!
Позирует! А где же здесь, скажите,
Девичья честь? Элементарный стыд?
У… во коза! С такою-то фигурой…
Художник, видно, парень с головой:
С такой девахой, если шуры-муры,
Я б рисанул… А чо? А я такой!
Недурно, но… Увы, не в колорите…
Неверен цвет, в рисунке есть изъян.
Я рассуждаю, в общем-то, как зритель,
Недурно, но… увы — не Тициан!
Ведь надо же бесстыдства-то набраться?!
И я еще справней ее была,
Но мне б так предложили рисоваться,
Так хоть озолоти — а не пошла!
Натурщица. Ну вот опять… Порода
Таких девиц ясна, как спортлото,
Красиво, нету слов, но для народа…
Для молодежи… Все-таки не то…
Узнают или нет? Смешно и страшно.
А вдруг придут знакомые, друзья?
Как я решилась? Это бесшабашно,
Но так красиво… Я или не я?
Конечно я. Осанка, руки, плечи.
Стоят студенты. Слышу их слова:
«Ужели это дочерь человечья,
Поднятая до ранга божества?»
Смеются. Или нет? Глаза серьезны.
Блеснул кавказца радостный оскал,
А если что, оглядываться поздно…
Ведь не поймут, что только рисовал,
Что даже взгляда липкого не бросил?
Что он другой, что не такой, как все?
Его палитры радостная осень
И та струит какой-то теплый свет.
Он так писал безумно, вдохновенно.
Что не сложилось — не его вина.
А я… Что я? Вполне обыкновенно.
Не узнают. Не верят, что земна…
Холст дышит сам. Едва сойдя с мольберта,
Тебе уже он не принадлежит:
Любая красота легка и смертна,
И время, как речной песок, бежит.
За годом год. Как пчелы лепят соты.
Пройдет и жизнь. Та девушка умрет.
И хорошо, если твоя работа
Хотя б на день ее переживет.
После ее, после моей ли смерти,
Натурщицу увидев на холсте,
Хоть кто-нибудь, без зла и грязи в сердце,
Пусть удивится этой красоте.
Пусть будет добр, пусть будет чист и ясен,
Пусть этот мир не превратит в мишень,
Почувствует, что человек прекрасен,
И это чувство сохранит в душе.
Ну, хватит, все, спусти на землю сходни,
Наговорил и в шутку, и всерьез.
Ты позвони, и встреть ее сегодня,
И захвати букет огромных роз…
Волжский мой городок — гладь да тишь.
Рассуждаю наивно и смело:
Мне сейчас очень нужно в Париж,
Понимаете, срочно, по делу!
Козырнет часовой на посту
И — родное уже за порогом…
У меня на Лионском мосту
Намечается встреча с Ван-Гогом.
А потом, погуляв вдоль реки,
Заглянуть под влияньем момента
В кабачок у папаши Танги —
Выпить горькую рюмку абсента.
Мне твердят: «Ты устал, ты блажишь —
Закружили семья и работа…»
Но мне надо, мне надо в Париж!
Очень надо… И очень охота…
Там, в уютном кафе за углом,
Средь солидных маршанов и пьяни,
Посидеть за тем самым столом,
Где когда-то сидел Модильяни.
Рисовать тушью черной, как креп,
Словно с сердца срывая заплаты…
И оставить на кофе и хлеб
Пару быстрых рисунков в уплату.
Говорят: «Ну куда ты спешишь?
Дел и дома по горло хватает…»
Но мне надо, мне надо в Париж —
Позарез! А меня не пускают.
Не пускают дела и семья,
И работа, и строй, и система…
А в Булонском тоскует скамья
О поэзии Поля Верлена…
Ну, не могут: нельзя, не дано —
Зря спешил с нерешенным вопросом.
Вот такая вот жизнь, Сирано, —
Плачь иль смейся — останешься с носом!
Ты не веришь, ты ждешь, ты звонишь, —
В трубке дальнего голоса эхо…
Вот и все, я уехал в Париж.
Не держи — я уехал! Уехал…
Наташе В.
Волной волос до пояса укрыта…
На теплоту наш мир преступно скуп,
И черных мыслей креповая свита
Ложится горькой складкою у губ.
Слепых дождей звенящая кантата,
Пустых дорог высокопарный слог,
И снова боль, с упорством автомата,
Раскалывает мраморный висок.
А горизонт, как прежде, чист и ласков,
Но веры нет в бессмертье наших душ.
И вот все чаще вместо ярких красок
Бумагу душит траурная тушь.
Я боль сниму ладонями, как накипь,
Как ржавчину сотру ее с чела,
Я докажу, что есть другие знаки,
Кроме единства и добра и зла.
Я боль возьму, сожму, сомну, как тряпку,
Волью в себя израненную кровь
И о любви что-то такое ляпну,
Что ты поймешь, что есть она — любовь!
Потом уйду. Привычно и не ново.
Затерянный в толпе знакомых лиц.
Но появлюсь неждан-незваный снова,
Едва почуяв дрожь твоих ресниц…
Ах, как хочется снова со всеми на «ты»,
Ах, как хочется нежности и доброты,
Но слетают с церквей, кувыркаясь, кресты.
И опять мне стоять у последней черты.
Но сегодня не я и не вышел мой срок.
Ни окольных путей, ни забытых дорог,
Ни улыбок друзей, ни полночных тревог,
Ну, а что не успел, не сказал и не смог
Под Полярной Звездой и под Южным Крестом,
Под бумагой, холстом да кленовым листом.
И покажется все удивительным сном.
Если что не допел — постараюсь потом…
«Запрягу я тройку борзых,
Темно-карих лошадей…»
Вдаль, по первому морозу,
От печали и страстей.
От случайных строк и звуков,
Чьей-то каши, чьих-то дров.
От жужжащих в уши слухов,
Прений и выговоров.
В поднебесье ранней ранью
Чуть заплещется рассвет,
Белый снег звенящей сканью
Заметет мой свежий след.
Если можно, Боже правый,
Нас помилуй и прости:
Независимое право —
Бросить вожжи средь пути.
Серебро на плечи сыплет,
Вскачь и — наплевать: куда?!
Кони влет, по звездной зыби,
Вплоть до Страшного суда.
Только где-то там, в тумане,
Прозвонят колокола…
Были кони. Были — сани.
Жизнь была и не была…
Я сейчас вспоминаю тебя — мне нужна тишина.
Нет, не мертвая тишь, а живое молчанье природы,
Бесконечный закат и зеленая в небе луна,
И в муаровой мгле чуть застенчивых звезд хороводы.
Я тебя на руках, как волну, как охапку цветов
Нес в безумстве веселом, кружа в ритме вальса по лужам.
Что тогда говорил? Я сегодня не помню тех слов,
И сейчас подобрать не сумею ни лучше, ни хуже…
Ты так жалобно мне говорила: «Зачем? Отпусти…
Я заплачу сейчас или крикну милиционера,
Видишь, люди вокруг…», — а сама прижималась к груди.
Крепче всяких запретов нас держит такая вот вера.
Губы сами тянулись к дурманным твоим волосам;
Их закусывал в кровь я, и взгляд отводил в поднебесье,
И себя проклинал за покорность тем синим глазам,
Что так ласково греют далекой и близкою песней.
Ты тогда пожалела меня? Или что там еще…
Или попросту знала, что это продлится недолго?
И дрожала рука, на мое опустившись плечо,
И прощальною свежестью лета пах ветер над Волгой.
Где потом не носило меня? В прикаспийских степях,
В хичаурских дорогах и в скалах седых Габустана.
То, что было тогда в самых синих на свете глазах,
Я забыл. И старался забыть поскорей, как ни странно.
Мне бы все позабыть. А когда я зимою вернусь,
Снова встретиться вдруг, — и замрут переулки пустые…
И почувствовать в сердце далекую светлую грусть,
И понять то, что это — любовь…
И что это — впервые…
Я все теперь приму наполовину.
И, на полсердца наложив печать,
На полувзгляд и полувыстрел в спину
Полуулыбкой буду отвечать.
Полуобман приму на полуверу,
Полуогонь приму на полдуши,
На полбеды отвечу полумерой
И буду скромно доживать в тиши.
Помилуй бог! Как просто и спокойно!
Не надо только принимать всерьез
Обиду, подлость, травлю или бойню,
А также мир надежд, ошибок, грез…
Я буду жить с полухолодной кровью
И ждать багряных листьев к сентябрю.
Я полупьян твоей полулюбовью
И полуверю в то, что говорю…
Где ты, Монгольская улица?
Редкие фонари.
Маленький дом сутулится
В сумерках до зари.
Пыльный трамвай покатится
Красным пятном с моста.
Память опять спохватится,
И захлестнет мечта.
Будда, вздохнув, неопытно
Взял самурайский меч.
День суетился хлопотно
В жанре случайных встреч,
В стиле заезжих вестернов
И мелодрам, и снов;
Проще назвать, естественно,
Все это как — любовь…
Проще, надежней, выгодней,
Не погрешив в строке.
Вот и рванулась иволгой
Песня в моей руке.
Все мы достойны лучшего,
Чем огонек в пути.
Не обещай, не мучайся,
Не вспоминай… Лети…
По аллее шел гвардейский полк,
Тихо шел, без труб и без знамен.
Городок провинциальный смолк,
Чуть прищурив ставенки окон,
И ни смех не слышался, ни плач.
Чувства оставались на потом.
На лафете спал седой трубач
Самым тихим, самым вечным сном.
Оставляли русские Смоленск.
Горько-тих чеканный шаг солдат.
Аксельбантов порыжевший блеск
Как-то был не к месту и не в такт.
Небосвод так безнадежно сер.
Да и все хватили через край.
Но усталый бледный офицер
Вдруг взмахнул рукою: «Запевай!»
Вицмундиров черное рванье!
Не до песен тем, кто чудом цел.
Гаркнуло злорадно воронье,
Только полк собрался и запел…
Пели в исступленье, как в бреду.
Голоса охрипшие сорвав,
Пели, спотыкаясь на ходу,
И безбожно путая слова.
Пели так, что слезы на щеках
Ни один за слабость не считал.
Поднималась песня на штыках,
И дрожал нагревшийся металл.
Ветер в нетерпении звенел,
Напоенный болью и свинцом.
И, едва поющий, офицер
Рухнул в гриву мраморным лицом.
Гул орудий плыл издалека.
Ничего… Вернемся… Ничего…
И несли солдаты на руках
Тело командира своего…
Все в капканах бед и обид,
Душит землю слепая злоба.
А над городом стук копыт,
Словно гвозди бьют в крышку гроба.
Тощих фонарей мутный свет:
Раз пророки спят, небо — немо!
Откровенья — бред, откровенных — нет!
Не горят огни Вифлеема!
Век еще живет, мир еще не стар,
И слепой поэт помнит Музу.
А планета мчит, как бильярдный шар,
И вот-вот закатится в лузу.
Там в сетях систем уже много лет,
Завершив свой бег бесполезный,
Мертвые шары вспыхнувших планет
Повисают над звездной бездной.
Мы спасемся, мы выросли в пене битв,
И оружье у нас любое —
От молитвы, похожей на пьяный хрип,
До бессильных смертей героев!
Нас столетьями вскармливал старый сон,
Что придет наш Спаситель светлый.
Приходили, помногу, из всех времен,
Но земля покрывалась — пеплом!
Птиц и ангелов убивают — влет…
Притерпелись, долой химеры!
И надежды нет, но ведь Он придет,
Наша память и наша вера!
ГРУСТНЫЙ АНГЕЛ (1996)