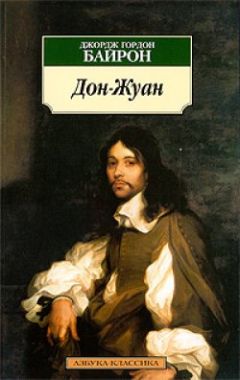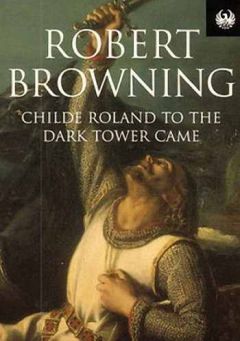Джордж Байрон - Паломничество Чайльд-Гарольда
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ[121]
Afin que cette application vous forçât de penser à autre chose; il n'y a en vérité de remède que celui-là et le temps.
Lettre du Roi de Prusse à D'Alembert, Sept. 7, 1776.[122]Дочь сердца моего, малютка Ада![123]
Похожа ль ты на мать? В последний раз.
Когда была мне суждена отрада
Улыбку видеть синих детских глаз,
Я отплывал — то был Надежды час.
И вновь плыву,[124] но все переменилось.
Куда плыву я? Шторм встречает нас.
Сон обманул… И сердце не забилось,
Когда знакомых скал гряда в тумане скрылась.
Как славный конь, узнавший седока,
Играя, пляшут волны подо мною.
Бушуйте, вихри! Мчитесь, облака!
Я рад кипенью, грохоту и вою.
Пускай дрожат натянутой струною
И гнутся мачты в космах парусов!
Покорный волнам, ветру и прибою,
Как смытый куст по прихоти валов,
Куда угодно плыть отныне я готов.
В дни молодости пел я об изгое,
Бежавшем от себя же самого,
И снова принимаюсь за былое,
Ношу с собой героя своего,
Как ветер тучи носит, — для чего?
Следы минувших слез и размышлений
Отливом стерты, прошлое мертво,
И дни влекутся к той, к последней смене
Глухой пустынею, где ни цветка, ни тени.
С уходом милой юности моей
Каких-то струн в моей душе не стало,
И лиры звук фальшивей и тусклей.
Но если и не петь мне, как бывало,
Пою, чтоб лира сон мой разогнала,
Себялюбивых чувств бесплодный сон.
И я от мира требую так мало:
Чтоб автора забвенью предал он,
Хотя б его герой был всеми осужден.
Кто жизнь в ее деяниях постиг,
Кем долгий срок в земной юдоли прожит,
Кто ждать чудес и верить в них отвык,
Чье сердце жажда славы не тревожит,
И ни любовь, ни ненависть не гложет,
Тому остался только мир теней,
Где мысль уйти в страну забвенья может,
Где ей, гонимой, легче и вольней
Меж зыбких образов, любимых с давних дней.
Их удержать, облечь их в плоть живую,
Чтоб тень была живее нас самих,
Чтоб в слове жить, над смертью торжествуя, —
Таким увидеть я хочу мой стих.
Пусть я ничтожен — на крылах твоих,
О мысль, твоим рожденьем ослепленный,
Но, вдруг прозрев незримо для других,
Лечу я ввысь, тобой освобожденный,
От снов бесчувственных для чувства пробужденный.
Безумству мысли надобна узда.
Я мрачен был, душой печаль владела.
Теперь не то! В минувшие года
Ни в чем не ставил сердцу я предела.
Фантазия виденьями кипела.
И ядом стал весны моей приход.
Теперь душа угасла, охладела.
Учусь терпеть неотвратимый гнет
И не корить судьбу, вкушая горький плод.
На этом кончим! Слишком много строф
О той поре, уже невозвратимой.
Из дальних странствий под родимый кров
Гарольд вернулся, раною томимый,
Хоть не смертельной, но неисцелимой.
Лишь Временем он сильно тронут был.
Уносит бег его неумолимый
Огонь души, избыток чувств и сил,
И, смотришь, пуст бокал, который пеной бил.
До срока чашу осушив свою
И ощущая только вкус полыни,
Он зачерпнул чистейшую струю,
Припав к земле, которой чтил святыни.
Он думал — ключ неистощим отныне,
Но вскоре снова стал грустней, мрачней
И понял вдруг в своем глубоком сплине,
Что нет ему спасенья от цепей,
Врезающихся в грудь все глубже, все больней.
В скитаньях научившись хладнокровью,
Давно считая, что страстями сыт,
Что навсегда простился он с любовью,
И равнодушье, как надежный щит,
От горя и от радости хранит,
Чайльд ищет вновь средь вихря светской моды,
В толкучке зал, где суета кипит,
Для мысли пищу, как в былые годы
Под небом стран чужих, среди чудес природы.
Но кто ж, прекрасный увидав цветок,
К нему с улыбкой руку не протянет?
Пред красотой румяных юных щек
Кто не поймет, что сердца жар не вянет?
Желанье славы чьей души не ранит,
Чьи мысли не пленит ее звезда?
И снова Чайльд пустым круженьем занят
И носится, как в прежние года,
Лишь цель его теперь достойней, чем тогда.
Но видит он опять, что не рожден
Для светских зал, для чуждой их стихии,
Что подчинять свой ум не может он,
Что он не может мыслить, как другие.
И хоть сжигала сердце в дни былые
Язвительная мысль его, но ей
Он мненья не навязывал чужие.
И в гордости безрадостной своей
Он снова ищет путь — подальше от людей.
Среди пустынных гор его друзья,
Средь волн морских его страна родная,
Где так лазурны знойные края,
Где пенятся буруны, набегая.
Пещеры, скалы, чаща вековая —
Вот чей язык в его душе поет.
И, свой родной для новых забывая,
Он книгам надоевшим предпочтет
Страницы влажные согретых солнцем вод.
Он, как халдей, на звезды глядя ночью
И населяя жизнью небосвод,
Тельца, Дракона видеть мог воочью.
Тогда, далекий от людских забот,
Он был бы счастлив за мечтой в полет
И душу устремить. Но прах телесный
Пылать бессмертной искре не дает,
Как не дает из нашей кельи тесной,
Из тяжких пут земных взлететь в простор небесный.
Среди людей молчит он, скучен, вял,
Но точно сокол, сын нагорной чащи,
Отторгнутый судьбой от вольных скал,
С подрезанными крыльями сидящий
И в яростном бессилии все чаще
Пытающийся проволочный свод
Ударами груди кровоточащей
Разбить и снова ринуться в полет —
Так мечется в нем страсть, не зная, где исход.
И вновь берет он посох пилигрима,
Чтобы в скитаньях сердце отошло.
Пусть это рок, пусть жизнь проходит мимо,
Презренью и отчаянью назло
Он призовет улыбку на чело.
Как в миг ужасный кораблекрушенья
Матросы хлещут спирт — куда ни шло!
И с буйным смехом ждут судеб свершенья,
Так улыбался Чайльд, не зная утешенья.
Ты топчешь прах Империи,[126] — смотри!
Тут Славу опозорила Беллона.
И не воздвигли статую цари?
Не встала Триумфальная колонна?
Нет! Но проснитесь, — Правда непреклонна:
Иль быть Земле и до скончанья дней
Все той же? Кровь удобрила ей лоно,
Но мир на самом страшном из полей
С победой получил лишь новых королей.[127]
О Ватерлоо,[128] Франции могила!
Гарольд стоит над кладбищем твоим.
Он бил, твой час, — и где ж Величье, Сила?
Все — Власть и Слава — обратилось в дым.
В последний раз, еще непобедим,
Взлетел орел — и пал с небес, пронзенный,
И, пустотой бесплодных дней томим,
Влачит он цепь над бездною соленой,[129] —
Ту цепь, которой мир душил закабаленный.
Урок достойный! Рвется пленный галл,
Грызет узду, но где триумф Свободы?
Иль кровь лилась, чтоб он один лишь пал,
Или, уча монархов чтить народы,
Изведал мир трагические годы,
Чтоб вновь попрать для рабства все права,
Забыть, что все равны мы от природы?
Как? Волку льстить, покончив с мощью Льва?
Вновь славить троны? Славь — но испытай сперва.
То смерть не тирании — лишь тирана.
Напрасны были слезы нежных глаз
Над прахом тех, чей цвет увял так рано,
Чей смелый дух безвременно угас.
Напрасен был и страх, томивший нас,
Мильоны трупов у подножья трона,
Союз народов, что Свободу спас, —
Нет, в миртах меч — вот лучший страж Закона, —
Ты, меч Гармодия, меч Аристогитона![130]
В ночи огнями весь Брюссель сиял,[131]
Красивейшие женщины столицы
И рыцари стеклись на шумный бал.
Сверкают смехом праздничные лица.
В такую ночь все жаждет веселиться,
На всем — как будто свадебный наряд,
Глаза в глазах готовы раствориться,
Смычки блаженство томное сулят.
Но что там? Странный звук! — Надгробный звон? Набат?
Ты слышал? — Нет! А что? — Гремит карета,
Иль просто ветер ставнями трясет.
Танцуйте же! Сон изгнан до рассвета,
Настал любви и радости черед.
Они ускорят времени полет.
Но тот же звук! Как странно прогудело!
И словно вторит эхом небосвод.
Опять? Все ближе! А, так вот в чем дело!
К оружью! Пушки бьют! И все вдруг закипело.
В одной из зал стоял перед окном
Брауншвейгский герцог.[132] Первый в шуме бала
Услышал он тот странный дальний гром,
И, хоть кругом веселье ликовало,
Он понял: Смерть беспечных вызывала,
И, вспомнив, как погиб его отец,
Вскочил, как от змеиного ужала, —
И на коня! И умер как храбрец!
Он, кровью мстя за кровь, нашел в бою конец.
Все из дворца на улицу спешат,
И хмель слетает с тех, кто были пьяны.
И бледны щеки те, что час назад
От нежной лести были так румяны.
Сердцам наносят тягостные раны
Слова прощанья, страх глядит из глаз.
Кто угадает жребий свой туманный,
Когда в ночи был счастьем каждый час, —
Но ужасом рассвет пирующих потряс.
Военные бегут со всех сторон,
Проносятся связные без оглядки,
Выходит в поле первый эскадрон,
Командой прерван сон пехоты краткий,
И боевые строятся порядки.
А барабан меж тем тревогу бьет,
Как будто гонит мужества остатки.
Толпа все гуще, в панике народ,
И губы бледные твердят: «Враг! Враг идет!»
Но грянул голос: «Кемроны, за мной!»[133]
Клич Лохьела, что, кланы созывая,
Гнал гордых саксов с Элбина долой;
Подъемлет визг волынка боевая,
Тот ярый дух в шотландцах пробуждая,
Что всем врагам давать отпор умел, —
То кланов честь, их доблесть родовая,
Дух грозных предков и геройских дел,
Что славой Эвана и Дональда гремел.
Вот принял их Арденн[134] зеленый кров,
От слез природы влажные дубравы.
Ей ведом жребий юных смельчаков:
Как смятые телами павших травы,
К сырой земле их склонит бой кровавый.
Но май придет — и травы расцвели,
А те, кто с честью пал на поле славы,
Хоть воплощенной доблестью пришли,
Истлеют без гробов в объятиях земли.
День видел блеск их жизни молодой,
Их вечер видел среди гурий бала,
Их ночь видала собранными в строй,
И сильным войском утро увидало.
Но в небе туча огненная встала,
Извергла дым и смертоносный град,
И что цвело-кровавой грязью стало,
И в этом красном месиве лежат
Француз, германец, бритт — на брата вставший брат.
Воспет их подвиг был и до меня,[135]
Их новое восславит поколенье,
Но есть один средь них — он мне родня, —
Его отцу нанес я оскорбленье.[136]
Теперь, моей ошибки в искупленье,
Почту обоих. Там он был в строю.
Он грудью встретил вражье наступленье
И отдал жизнь и молодость свою,
Мой благородный друг, мой Говард, пал в бою.
Все плакали о нем, лишь я не мог,
А если б мог, так что бы изменилось?
Но, стоя там, где друг мой в землю слег,
Где — вслед за ним увядшая — склонилась
Акация, а поле колосилось,
Приветствуя и солнце и тепло, —
Я был печален: сердце устремилось
От жизни, от всего, что вновь цвело,
К тем, воскресить кого ничто уж не могло.
Их тысячи — и тысячи пустот
Оставил сонм ушедших за собою.
Их не трубою Славы воззовет
Великий день, назначенный судьбою,
Но грозного архангела трубою.
О, если б дать забвение живым!
Но ведь и Слава не ведет к покою:
Она придет, уйдет, пленясь другим, —
А близким слезы лить о том, кто был любим.
Но слезы льют с улыбкою сквозь слезы:
Дуб долго сохнет, прежде чем умрет.
В лохмотьях парус, киль разбили грозы,
И все же судно движется вперед.
Гниют подпоры, но незыблем свод,
Зубцы ломает вихрь, но крепки стены,
И сердце, хоть разбитое, живет
И борется в надежде перемены.
Так солнце застит мгла, но день прорвется пленный.
Так — зеркало, где образ некий зрим:
Когда стеклу пора пришла разбиться,
В любом осколке, цел и невредим,
Он полностью, все тот же, отразится.
Он и в разбитом сердце не дробится,
Где память об утраченном жива.
Душа исходит кровью, и томится,
И сохнет, как измятая трава,
Но втайне, но без слов, — да и на что слова?
В отчаянье есть жизнь — пусть это яд, —
Анчара корни только ядом жили.
Казалось бы, и смерти будешь рад,
Коль жизнь тяжка. Но, полный смрадной гнили,
Плод Горя всеми предпочтен могиле.
Так яблоки на Мертвом море есть,
В них пепла вкус, но там их полюбили.
Ах, если б каждый светлый час зачесть
Как целый год, — кто б жил хотя б десятков шесть?
Псалмист измерил наших дней число,
И много их, — мы в жалобах не правы.
Но Ватерлоо тысячи смело,
Прервав ужасной эпопеи главы.
Его для поэтической забавы
Потомки звучно воспоют в стихах:
«Там взяли верх союзные державы,
Там были наши прадеды в войсках!» —
Вот все, чем этот день останется в веках.
Сильнейший там, но нет, не худший пал.[137]
В противоречьях весь, как в паутине,
Он слишком был велик и слишком мал,
А ведь явись он чем-то посредине,
Его престол не дрогнул бы доныне
Иль не воздвигся б вовсе. Дерзкий пыл
Вознес его и приковал к пучине,
И вновь ему корону возвратил,[138]
Чтоб, театральный Зевс, опять он мир смутил.
Державный пленник, бравший в плен державы,
Уже ничтожный, потерявший трон,
Ты мир пугаешь эхом прежней славы.
Ее капризом был ты вознесен,
И был ей люб свирепый твой закон.
Ты новым богом стал себе казаться,
И мир, охвачен страхом, потрясен,
Готов был заклеймить как святотатца
Любого, кто в тебе дерзнул бы сомневаться.
Сверхчеловек, то низок, то велик,
Беглец, герой, смиритель усмиренный,
Шагавший вверх по головам владык,
Шатавший императорские троны,
Хоть знал людей ты, знал толпы законы,
Не знал себя, не знал ты, где беда,
И, раб страстей, кровавый жрец Беллоны,
Забыл, что потухает и звезда
И что дразнить судьбу не надо никогда.
Но, презирая счастья перемены,
Врожденным хладнокровием храним,
Ты был незыблем в гордости надменной
И, мудрость это иль искусный грим,
Бесил врагов достоинством своим.
Тебя хотела видеть эта свора
Просителем, униженным, смешным,
Но, не склонив ни головы, ни взора,
Ты ждал с улыбкою спокойной приговора.
Мудрец в несчастье! В прежние года
Ты презирал толпы покорной мненье,
Весь род людской ты презирал тогда,
Но слишком явно выражал презренье.
Ты был в нем прав, но вызвал раздраженье
Тех, кто в борьбе возвысил жребий твой:
Твой меч нанес тебе же пораженье.
А мир — не стоит он игры с судьбой!
И это понял ты, как все, кто шел с тобой.
Когда б стоял и пал ты одинок,
Как башня, с гор грозящая долинам,
Щитом презренье ты бы сделать мог,
Но средь мильонов стал ты властелином,
Ты меч обрел в восторге толп едином,
А Диогеном не был ты рожден,
Ты мог скорее быть Филиппа сыном,[139]
Но, циник, узурпировавший трон,
Забыл, что мир велик и что не бочка он.
Спокойствие для сильных духом — ад.
Ты проклят был: ты жил дерзаньем смелым,
Огнем души, чьи крылья ввысь манят,
Ее презреньем к нормам закоснелым,
К поставленным природою пределам.
Раз возгорясь, горит всю жизнь оно,
Гоня покой, живя великим делом,
Неистребимым пламенем полна,
Для смертных роковым в любые времена.
Им порожден безумцев род жестокий,
С ума сводящий тысячи людей,
Вожди, сектанты, барды и пророки, —
Владыки наших мнений и страстей,
Творцы систем, апостолы идей,
Счастливцы? Нет! Иль счастье им не лгало?
Людей дурача, всех они глупей.
И жажды власти Зависть бы не знала,
Узнав, как жалит их душевной муки жало.
Их воздух — распря, пища их — борьба.
Крушит преграды жизнь их молодая,
В полете настигает их судьба,
В их фанатизме — сила роковая.
А если старость подошла седая
И скуки и бездействия позор —
Их смелый дух исчахнет, увядая:
Так догорит без хвороста костер,
Так заржавеет меч, когда угас раздор.
Всегда теснятся тучи вкруг вершин,
И ветры хлещут крутизну нагую.
Кто над людьми возвысится один,
Тому идти сквозь ненависть людскую.
У ног он видит землю, синь морскую
И солнце славы — над своим челом.
А вьюга свищет песню колдовскую,
И грозно тучи застят окоем:
Так яростный, как смерч, вознагражден подъем.
Вернемся к людям! Истина таится
В ее твореньях да еще в твоих,
Природа-мать. И там, где Рейн струится,
Тебя не может не воспеть мой стих.
Там средоточье всех красот земных.
Чайльд видит рощи, горы и долины,
Поля, холмы и виноград на них,
И замки, чьи угасли властелины,
Печали полные замшелые руины.
Они, как духи гордые, стоят
И сломленные высясь над толпою.
В их залах ветры шалые свистят,
Их башни дружат только меж собою,
Да с тучами, да с твердью голубою.
А в старину бывало здесь не так:
Взвивался флаг, труба сзывала к бою.
Но спят бойцы, истлел и меч и стяг,
И в стены черные не бьет тараном враг.
Меж этих стен гнездился произвол,
Он жил враждой, страстями и разбоем.
Иной барон вражду с соседом вел,
Но мнил себя не богом, так героем.
А впрочем, не хватало одного им:
Оплаченных историку похвал
Да мраморной гробницы, но, не скроем, —
Иной, хоть маломощный, феодал
Подчас величьем дел и помыслов блистал.
В глухих трущобах, в замке одиноком
Не каждый подвиг находил певца.
Амур в своем неистовстве жестоком
Сквозь панцири вторгался в их сердца,
Эмблема дамы на щите бойца
Тогда была как злобы дух ужасный.
И войнам замков не было конца,
И, вспыхнув из-за грешницы прекрасной,
Глядел не раз пожар на Рейн, от крови красный.
О Рейн, река обилья и цветенья,
Источник жизни для своей страны!
Ты нес бы вечно ей благословенье,
Когда б не ведал человек войны,
И, никогда никем не сметены,
Твои дары цвели, напоминая,
Что знали рай земли твоей сыны.
И я бы думал: ты посланник рая,
Когда б ты Летой был… Но ты река другая.
Хоть сотни раз кипела здесь война,
Но слава битв и жертвы их забыты.
По грудам тел, по крови шла она,
Но где они? Твоей волною смыты.
Твои долины зеленью повиты,
В тебе сияет синий небосклон,
И все же нет от прошлого защиты,
Его, как страшный, неотвязный сои,
Не смоет даже Рейн, хоть чист и светел он.
В раздумье дальше странник мой идет,
Глядит на рощи, на холмы, долины.
Уже весна свой празднует приход,
Уже от этой радостной картины
Разгладились на лбу его морщины.
Кого ж не тронет зрелище красот?
И то и дело, пусть на миг единый,
Хотя не сбросил он душевный гнет,
В глазах безрадостных улыбка вдруг мелькнет.
И вновь к любви мечты его летят,
Хоть страсть его в своем огне сгорела.
Но длить угрюмость, видя нежный взгляд,
Но чувство гнать — увы, — пустое дело!
В свой час и тот, чье сердце охладело,
На доброту ответит добротой.
А в нем одно воспоминанье тлело:
О той одной, единственной, о той,
Чьей тихой верности он верен был мечтой.
Да, он любил (хотя несовместимы
Любовь и холод), он тянулся к ней.
Что привлекло характер нелюдимый,
Рассудок, презирающий людей?
Чем хмурый дух, бегущий от страстей,
Цветенье первой юности пленило?
Не знаю. В одиночестве быстрей
Стареет сердце, чувств уходит сила,
И в нем, бесчувственном, одно лишь чувство жилой
Она — дитя! — тем существом была,
Которое не церковь с ним связала.
Но связь была сильней людского зла
И маску пред людьми не надевала.
И даже сплетни многоликой жало,
И клевета, и чары женских глаз —
Ничто незримых уз не разрушало.
И Чайльд-Гарольд стихами как-то раз
С чужбины ей привет послал в вечерний час.
Над Рейном Драхенфельз[140] вознесся,
Венчанный замком, в небосвод,
А у подножия утеса
Страна ликует и цветет.
Леса, поля, холмы и нивы
Дают вино, и хлеб, и мед,
И города глядят в извивы
Широкоструйных рейнских вод.
Ах, в этой радостной картине
Тебя лишь не хватает ныне.
Сияет солнце с высоты,
Крестьянок праздничны наряды.
С цветами, сами как цветы,
Идут, и ласковы их взгляды.
И красоте земных долин
Когда-то гордые аркады
И камни сумрачных руин
Дивятся с каменной громады.
Но нет на Рейне одного:
Тебя и взора твоего,
Тебе от Рейна в час печали
Я шлю цветы как свой привет.
Пускай они в пути увяли,
Храни безжизненный букет.
Он дорог мне, он узрит вскоре
Твой синий взор в твоем дому.
Твое он сердце через море
Приблизит к сердцу моему,
Перенесет сквозь даль морскую
Сюда, где о тебе тоскую,
А Рейн играет и шумит,
Дарит земле свои щедроты,
И всякий раз чудесный вид
Являют русла повороты.
Тут все тревоги, все заботы
Забудешь в райской тишине,
Где так милы земли красоты
Природе-матери и мне.
И мне! Но если бы при этом
Твой взор светил мне прежним светом!
Под Кобленцем[141] есть холм, и на вершине
Простая пирамида из камней.
Она не развалилась и доныне,
И прах героя погребен под ней.
То был наш враг Марсо,[142] но тем видней
Британцу и дела его, и слава.
Его любили — где хвала верней
Солдатских слез, пролитых не лукаво?
Он пал за Францию, за честь ее и право.
Был горд и смел его короткий путь.
Две армии — и друг и враг — почтили
Его слезами. Странник, не забудь
Прочесть молитву на его могиле!
Свободы воин, был он чужд насилий
Во имя справедливости святой,
Для чьей победы мир в крови топили,
Он поражал душевной чистотой.
За это и любил его солдат простой.
Вот Эренбрейтштейн[143] — замка больше нет.
Его донжоны взрывом разметало.
И лишь обломки — память прежних лет,
Когда ни стен, ни каменного вала
Чугунное ядро не пробивало.
В дыму войны отсюда враг бежал,
Но мир низверг твердыню феодала:
Где град железный тщетно грохотал,
Там хлещет летний дождь в проломы хмурых зал.
Прощай, о Рейн! В далекий путь без цели
От милых стран пришельца гонит рок.
И те, кто вместе, жить бы здесь хотели,
И тот, кто в целом мире одинок.
И если бы оставить жертву мог
Ужасный коршун самоугрызений —
Так только здесь, где каждый уголок
И дик и чуден, мил труду и лени,
Обилен и богат, и щедр, как день осенний.
И все ж прости! О, тщетное «прости»!
Кто приникал к твоей струе кристальной,
Не может образ твой не унести.
И если он уйти решил, печальный,
Тебе опять он кинет взор прощальный,
Стремясь запечатлеть твои черты.
Пусть Юг роскошней в мощи изначальной,
Где в мире край, который слил, как ты,
И славу прошлых дней, и мягкость красоты?
Уютное величье, — отраженья
Домов, церквей и башен городских.
Средь рощ и пашен — белые селенья.
Там пропасти, там зубья скал нагих —
Предвосхищенье крепостей людских.
Монастыри с готическим фасадом,
А люди — как природа: здесь для них
Веселье стало жизненным укладом,
Хотя империи катятся в пропасть рядом.
Но мимо, мимо! Вот громады Альп,
Природы грандиозные соборы;
Гигантский пик — как в небе снежный скальп;
И, как на трон, воссев на эти горы,
Блистает Вечность, устрашая взоры.
Там край лавин, их громовой исход,
Там для души бескрайные просторы,
И там земля штурмует небосвод.
А что же человек? Чего он, жалкий, ждет?
Но, прежде чем подняться на высоты,
Хочу равнинный восхвалить Морат,[144]
Где бой пришельцам дали патриоты
И где не покраснеешь за солдат.
Хотя ужасен их трофеев склад.
Враги свободы, здесь бургундцы пали.
Они непогребенные лежат,
Им памятником их же кости стали,
И внемлет черный Стикс стенаньям их печали.
Как Ватерлоо повторило Канны,[145]
Так повторен Моратом Марафон.
Там выиграли битву не тираны,
А Вольность, и Гражданство, и Закон.
Там граждане сражались не за трон,
То не была над слабыми расправа,
И не был там народ порабощен,
Не проклинал «божественное право»,
Которым облачен тот, в чьих руках держава.
В безлюдном одиночестве, одна,
Грустит колонна у стены замшелой,
Величья гибель видела она.
И смотрит в Вечность взгляд бесцветно-белый,
Как человек, от слез окаменелый
И все ж не ставший чувствовать слабей,
Она дивится, что осталась целой,
Когда Авентик,[146] слава древних дней,
Нагроможденьем стал бесформенных камней.
Здесь Юлия — чья память да святится! —
Служенью в храме юность отдала
И, небом не услышанная жрица,
Когда отца казнили, умерла.
Его боготворила, им жила!
Но суд закона глух к мольбе невинной,
И дочь отцовской жизни не спасла.
Без памятника холмик их пустынный,
Где сердце спит одно, и прах и дух единый.
Таких трагедий и таких имен
Да не забудет ни один сказитель!
Империи уйдут во тьму времен,
В безвестность канут раб и победитель,
Но высшей добродетели ревнитель
В потомстве жить останется навек,
И взором ясным, новый небожитель
Глядит на солнце, чист, как горный снег,
Забыв на высоте всего земного бег.
Но вот Леман раскинулся кристальный,
И горы, звезды, синий свод над ним —
Все отразилось в глубине зеркальной,
Куда глядит, любуясь, пилигрим.
Но человек тут слишком ощутим,
А чувства вянут там, где люди рядом.
Скорей же в горы, к высям ледяным,
К тем мыслям, к тем возвышенным отрадам,
Которым чужд я стал, живя с двуногим стадом.
Замечу кстати: бегство от людей —
Не ненависть еще и не презренье.
Нет, это бегство в глубь души своей,
Чтоб не засохли корни в небреженье
Среди толпы, где в бредовом круженье —
Заразы общей жертвы с юных лет —
Свое мы поздно видим вырожденье,
Где сеем зло, чтоб злом ответил свет,
И где царит война, но победивших нет.
Настанет срок — и счастье бросит нас,
Раскаянье на сердце ляжет гнетом,
Мы плачем кровью. В этот страшный час
Все черным покрывается налетом,
И жизни путь внезапным поворотом
Уводит в ночь. Моряк в порту найдет
Конец трудам опасным и заботам,
А дух — уплывший в Вечность мореход —
Не знает, где предел ее бездонных вод.
Так что ж, не лучше ль край избрать пустынный
И для земли — земле всю жизнь отдать
Над Роною, над синею стремниной,
Над озером, которое, как мать,
Не устает ее струи питать, —
Как мать, кормя малютку дочь иль сына,
Не устает их нежить и ласкать.
Блажен, чья жизнь с Природою едина,
Кто чужд ярму раба и трону властелина.
Я там в себе не замыкаюсь. Там
Я часть Природы, я — ее созданье.
Мне ненавистны улиц шум и гам,
Но моря гул, но льдистых гор блистанье!
В кругу стихий мне тяжко лишь сознанье,
Что я всего лишь плотское звено
Меж тварей, населивших мирозданье,
Хотя душе сливаться суждено
С горами, звездами иль тучами в одно.
Но жизнь лишь там. Я был в горах — я жил,
То был мой грех, когда в пустыне людной
Я бесполезно тратил юный пыл,
Сгорал в борьбе бессмысленной и трудной.
Но я воспрял. Исполнен силы чудной,
Дышу целебным воздухом высот,
Где над юдолью горестной и скудной
Уже мой дух предчувствует полет,
Где цепи сбросит он и в бурях путь пробьет.
Когда ж, ликуя, он освободится
От уз, теснящих крыл его размах, —
От низкого, что может возродиться
В ничтожной форме — в жабах иль жуках,
И к свету свет уйдет и к праху прах,
Тогда узнаю взором ясновидца
Печать бесплотной мысли на мирах,
Постигну Разум, что во всем таится
И только в редкий миг снисходит нам открыться.
Иль горы, волны, небеса — не часть
Моей души, а я — не часть вселенной?
И, к ним узнав возвышенную страсть,
Не лучше ль бросить этот мир презренный,
Чем прозябать, душой отвергнув пленной
Свою любовь для здешней суеты,
И равнодушным стать в толпе надменной,
Как те, что смотрят в землю, как скоты,
Чья мысль рождается рабою темноты.
Продолжим нить рассказа моего!
Ты, мыслящий над пастью гроба черной
О бренности, взгляни на прах того,
Кто был как свет, как пламень жизнетворный,
Он здесь рожден,[147] и здесь, где ветер горный
Бальзамом веет в сердце, он созрел,
К вершинам славы шел тропой неторной
И, чтоб венчать бессмертьем свой удел, —
О глупость мудреца! — все отдал, чем владел.
Руссо, апостол роковой печали,
Пришел здесь в мир, злосчастный для него,
И здесь его софизмы обретали
Красноречивой скорби волшебство.
Копаясь в ранах сердца своего,
Восторг безумья он являл в покровах
Небесной красоты, и оттого
Над книгой, полной чувств и мыслей новых,
Читатель слезы лил[148] из глаз, дотоль суровых.
Любовь безумье страсти в нем зажгла, —
Так дуб стрела сжигает громовая.
Он ею был испепелен дотла,
Он не умел любить, не погибая.
И что же? Не красавица живая,
Не тень усопшей, вызванная сном,
Его влекла, в отчаянье ввергая, —
Нет, чистый образ, живший только в кем,
Страницы книг его зажег таким огнем.
Тот пламень — чувство к Юлии прекрасной,
Кто всех была и чище и нежней, —
То поцелуев жар, увы, напрасный,
Лишь отклик дружбы находивший в ней,
Но, может быть, в унынье горьких дней
Отрадой мимолетного касанья
Даривший счастье выше и полней,
Чем то, каким — ничтожные созданья! —
Мы упиваемся в восторгах обладанья.
Всю жизнь он создавал себе врагов,
Он гнал друзей, любовь их отвергая.
Весь мир подозревать он был готов.
На самых близких месть его слепая
Обрушивалась, ядом обжигая, —
Так светлый разум помрачала тьма.
Но скорбь виной, болезнь ли роковая?
Не может проницательность сама
Постичь безумие под маскою ума.
И, молнией безумья озаренный,
Как пифия на троне золотом,
Он стал вещать, и дрогнули короны,
И мир таким заполыхал огнем,
Что королевства, рушась, гибли в нем.
Не так ли было с Францией, веками
Униженной, стонавшей под ярмом,
Пока не поднял ярой мести знамя
Народ, разбуженный Руссо с его друзьями.
И страшен след их воли роковой.
Они сорвали с Правды покрывало,
Разрушив ложных представлений строй,
И взорам сокровенное предстало.
Они, смешав Добра и Зла начала,
Все прошлое низвергли. Для чего?
Чтоб новый трон потомство основало,
Чтоб выстроило тюрьмы для него
И мир опять узрел насилья торжество.[149]
Так не должно, не может долго длиться!
Народ восстал, оковы сбросил он,
Но не сумел в свободе утвердиться.
Почуяв силу, властью ослеплен,
Забыл он все — и жалость и закон.
Кто рос в тюрьме, во мраке подземелий,
Не может быть орлу уподоблен,
Чьи очи в небо с первых дней глядели, —
Вот отчего он бьет порою мимо цели.
Чем глубже рана, тем упорней след.
Пускай из сердца кровь уже не льется,
Рубец остался в нем на много лет.
Но тот, кто знал, за что с судьбою бьется,
Пусть бой проигран, духом не сдается.
Страсть притаилась и безмолвно ждет.
Отчаянью нет места. Все зачтется
В час торжества. Возмездие придет,
Но Милосердье пусть проверит Мести счет.
Леман! Как сладок мир твой для поэта,
Изведавшего горечь бытия!
От шумных волн, от суетного света
К тебе пришел я, горная струя.
Неси ж меня, заветная ладья!
Душа отвергла сумрачное море
Для светлых вод, и, мнится, слышу я,
Сестра, твой голос в их согласном хоре:
«Вернись! Что ищешь ты в бушующем просторе?»
Нисходит ночь. В голубоватой мгле
Меж берегом и цепью гор окрестной
Еще все ясно видно на земле.
Лишь Юра, в тень уйдя, стеной отвесной,
Вся черная, пронзила свод небесный.
Цветов неисчислимых аромат
Восходит ввысь. Мелодией чудесной
Разносится вечерний звон цикад,
И волны шепчутся и плещут веслам в лад.
По вечерам цикада веселится
И жизнью детства шумного живет.
Вот залилась и вдруг умолкла птица,
Иль замечтавшись, иль уснув. А вот
Неясный шепот от холмов идет.
Нет, слух обманут! Это льют светила
(Как девушка о милом слезы льет)
Росу, чтоб грудь земную напоила
Живущей в них души сочувственная сила.
О звезды, буквы золотых письмен
Поэзии небесной! В них таится
И всех миров, и всех судеб закон.
И тот, чей дух к величию стремится,
К ним рвется ввысь, чтоб с ними породниться,
В них тайна, ими движет Красота.
И все, чем может человек гордиться,
«Своей звездой» зовет он неспроста, —
То честь и счастье, власть и слава, и мечта.
Земля и небо смолкли. Но не сон —
Избыток чувств их погрузил в мечтанье.
И тишиною мир заворожен.
Земля и небо смолкли. Гор дыханье,
Движенье звезд, в Лемане — волн плесканье, —
Единой жизнью все напоено.
Все существа, в таинственном слиянье,
В едином хоре говорят одно:
«Я славлю мощь творца, я им сотворено».
И, влившись в бесконечность бытия,
Не одинок паломник одинокий,
Очищенный от собственного «я».
Здесь каждый звук, и близкий и далекий,
Таит всемирной музыки истоки,
Дух красоты, что в бег миров ввела
И твердь земли, и неба свод высокий,
И пояс Афродиты создала,
Которым даже Смерть побеждена была.
Так чувствовали персы в оны дни,
На высях гор верша богослуженье.
Лицом к лицу с природою они
В молитве принимали очищенье —
Не средь колонн, не в тесном огражденьи.
Сравни тот храм, что строил грек иль гот,
С молельнею под небом, в окруженье
Лесов и гор, долин и чистых вод,
Где не стеснен души возвышенный полет.
Но как темнеет! Свет луны погас,
Летят по небу грозовые тучи.
Подобно блеску темных женских глаз,
Прекрасен блеск зарницы. Гром летучий
Наполнил все: теснины, бездны, кручи.
Горам, как небу, дан живой язык,
Разноречивый, бурный и могучий,
Ликуют Альпы в этот грозный миг,
И Юра в ночь, в туман им шлет ответный клик,
Какая ночь! Великая, святая.
Божественная ночь! Ты не для сна!
Я пью блаженство грозового рая,
Я бурей пьян, которой ты полка.
О, как фосфоресцирует волна!
Сверкая, пляшут капли дождевые.
И снова тьма, и, вновь озарена,
Гудит земля, безумствуют стихии,
И сотрясают мир раскаты громовые.
Здесь, между двух утесистых громад,
Проложен путь беснующейся Роной.
Утесы, как любовники, стоят,
Когда они любовью оскорбленной
И злобой, в пепле нежности рожденной,
Как бездною, разделены навек,
И май сердец, в цвету испепеленный,
Две жизни ввергнул в вечный лед и снег
И на сердечный ад изгнанников обрек.
Где Рона буйно об утесы бьет,
Там ярых бурь приют оледенелый.
Их сонмы там — и там передает
Одна другой пылающие стрелы.
Вот вспыхнул сноп, извилистый и белый,
И, раздвоившись, ринулся в пролет.
Он понял: там Отчаянья пределы,
Там все разрушил Времени полет, —
Так пусть же молния последнее убьет.
Ночь, буря, тучи, взрывы молний, гром,
Река, утесов черные громады,
Душа, в грозе обретшая свой дом, —
До сна ли здесь? Грохочут водопады,
И сердца струны откликаться рады
Родным бессонной мысли голосам.
Куда ты, буря, гонишь туч армады?
Иль бурям сердца ты сродни? Иль там,
Среди орлиных гнезд, твой облачный сезам?
О, если бы нашел я воплощенье
И выразил хотя б не все, хоть часть
Того, что значит чувство, увлеченье,
Дух, сердце, разум, слабость, сила, страсть,
И если б это все могло совпасть
В едином слове «молния» и властно
Сказало бы, что жить дана мне власть, —
О, я б заговорил! — но ждать напрасно:
Как скрытый в ножнах меч, зачахнет мысль безгласно.
Восходит утро — утро все в росе,
Душисто, ярко и, как розы, ало,
И так живит, рассеяв тучи все,
Как будто смерти на земле не стало.
Но вот и день! И снова все сначала:
Тропою жизни — дальше в путь крутой!
Лемана зыбь, деревьев опахала —
Все будит мысль и говорит с мечтой,
Вливая в путника отраду и покой.
Кларан, Кларан! Приют блаженства милый!
Твой воздух весь любовью напоен.
Любовь дает корням деревьев силы,
Снегов альпийских озаряет сон.
Любовью предвечерний небосклон
Окрашен, и утесы-великаны
Хранят покой влюбленного, чтоб он
Забыл и свет, и все его обманы,
Надежды сладкий зов, ее крушений раны.
В Кларане все — любви бессмертной след,[150]
Она везде, как некий бог, который
Дарует тварям жизнь, добро и свет,
Здесь трон его, ступени к трону — горы,
Он радужные дал снегам уборы,
Он в блеске зорь, он в ароматах роз,
Его, ликуя, славят птичьи хоры,
И шорох трав, и блестки летних рос,
И веянье его смиряет ярость гроз.