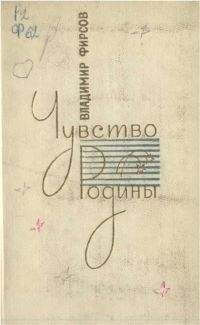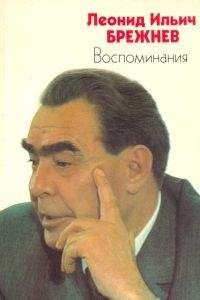Михаил Луконин - Стихотворения и поэмы
Как раз в ту пору, весной.,1949 года, несколько недель спустя после появления поэмы «Рабочий день» в ленинградском журнале «Звезда», Луконин публикует (в той же «Звезде», а в сокращенном виде и в «Литературной газете» [30]) большую статью «Проблемы советской поэзии». Там он, в частности, высказывает свое отношение к поэме Н. Заболоцкого «Творцы дорог», отношение очень интересное, с нашей точки зрения, но настолько резкое, что резкость эта, пожалуй, сегодня уже требует специального объяснения.
Боюсь, что современный читатель, заглянув в № 3 «Звезды» за 1949 год, будет несколько ошарашен стилем Луконина, который назвал Т. С. Элиота агентом космополитизма и американизма, Б. Пастернака — юродивым, путающимся у нас в ногах, а А. Ахматову — декаденткой, чью поэзию культивируют подонки. Луконин никогда впоследствии не вспоминал об этой статье, он ни одной строки из нее не вставил в два объемистых издания книги своих статей «Товарищ Поэзия». «Есть случаи, которых я сейчас просто стыжусь».[31] Я уверен: это признание имеет в виду статью 1949 года. Исследователи творчества Луконина ее, правда, вспоминать не любят: ни один из критиков, писавших о нем, ни словом о ней не обмолвился. Считается, что вспоминать бестактно. Я иначе смотрю на задачи истории литературы: умнеть надо не забвением, а памятью. Луконин достаточно сильная фигура, чтобы отвечать за свои слова. Не только в смысле верности оценок: тут время само всех расставило по своим местам: и Заболоцкого, и Элиота, и Пастернака, и Ахматову (в издании которой в Большой серии «Библиотеки поэта» четверть века спустя Луконин сам участвовал как член редколлегии). Но интересен момент чисто психологический: как Луконин, человек самобытного характера и независимого нрава, в 1949 году написал и напечатал такое? Механическим исполнителем его не назовешь.
Тут надо учесть, конечно, что статья представляет собою доклад, а Луконин был тогда работником Союза писателей. «По должности» не мог отказаться. А уж взявшись за доклад, Луконин вложил в него всю свою страсть. Пожалуй, в этом был оттенок и чисто солдатской решимости: пропадать — так с музыкой! Обрушился на Д. Данина, одного из лучших критиков того времени, который писал о стихах Луконина интересно и ярко, а на «Рабочий день» откликнулся почти восторженной рецензией — буквально за считанные дни до того, как «попал» в луконинский доклад!
…Долго потом пришлось Луконину ждать хороших критиков. Двадцать пять лет спустя он сказал мне (это был единственный мой разговор с Лукониным, и я помню его слово в слово), даже не сказал, а буркнул: «Надоела дамская критика». Меня потянуло спросить: «Михаил Кузьмич, а помните, как вы оттолкнули Данина?» Но посмотрел на эти чугунные обвисшие плечи. Дыхание вдруг расслышал шумное, тяжелое. Понял, что ни волоска не добавлю к тому грузу, который и так уже таскает на себе этот человек… Разговор произошел летом 1974 года.
В 1949 году Луконину было куда легче. И он с гневом говорил о Заболоцком, что тот книжничает, выдумывает, пугается сам и пугает читателей. Что тот плохо разбирается в происходящем. Что никому не нужно его «иконописное мастерство и рассуждения о стихиях и толпах, о мирозданьях и прочей символике».[32] Раздражение Луконина вызвали следующие строки из поэмы Н. Заболоцкого «Творцы дорог»:
Рожок поет протяжно и уныло, —
Знакомый сердцу, радостный сигнал!
Покуда медлит сонное светило,
В свои права вступает аммонал…
И, равномерным грохотом обвала
До глубины своей потрясена,
Из тьмы веков природа простонала,
И, простонав, замолкнула она.
Комментарий Луконина: «Вот, оказывается… приходится пожалеть природу… В этих стихах как раз то отношение к труду, тот подход к изображению рабочих, который мы должны решительно отмести».[33]
Луконин уловил в поэзии Заболоцкого ту концепцию, которая фундаментальным ощущением ценностей противостояла в тот момент его собственной. У Заболоцкого земля наделена духовным суверенитетом, ей больно, ее надо пожалеть.
В 1949 году Луконин еще не знает этих чувств. Вернее, так: он еще не знает, что он их знает.
«Рабочий день» с предельной последовательностью выражает тогдашнее время, но параллельно этой поэме, достаточно локальной по теме и охвату, Луконин пишет вещь значительно более широкую и масштабную — поэтическую хронику военных лет.
6«Дорога к миру» появляется через полтора года после «Рабочего дня». На сей раз московские журналы не упускают рукописи, они даже соперничают из-за нее: Луконин несет текст в «Знамя», случайно показывает Твардовскому; тот читает за ночь (три тысячи строк!) и ставит в ближайший, майский номер 1950 года.
Начнем разбор этой поэмы с темы земли, природы: сравнительно с «Рабочим днем» она в «Дороге к миру» занимает заметное место и играет самостоятельную роль — родная земля действительно участвует в драме войны. В художественной системе она как бы «помогает» бойцам: березы им кивают сиротливо, дождик прикрывает их сеткой, ветер гладит им головы, солнце заглядывает им в лицо, израненная трава кланяется им колосками… И падает трава на колени, когда проносятся над нею немецкие «мессера». Трава — ключевой образ в этой системе связей человека с родной землей; чувствуется, что породил Луконина степной край; у него и в лирике, в стихотворении «Машинист»: «Я траву высокую поставил над головой…» Здесь то же: упасть в траву лицом — спрятать лицо от огня.
Истомленные травы,
замирая от света,
встают, выпрямляя онемевшие ножки,
узнать,
как проходим мы средь горячего лета,
и аплодируют в крохотные ладошки…
Интересно, что, отрицая в стихах Заболоцкого мотив жалости к природе, Луконин в эту же пору практически приходит к близким чувствам. Жалости Заболоцкого тут, конечно, нет. Но есть ощущение того, что земля живая. Беззащитная. «И я боялся бегать по лужам, чтоб в небо нечаянно не провалиться…» Этот детством навеянный образ отвечает у Луконина глубинному плану мироощущения: земля, стеклянно отраженная в небе, небо — в земле. Мир завершен и… хрупок. Его надо беречь. Понять себя на родной земле, в связи с родной землей. Это станет темой и предметом следующей, главной поэмы Луконина и окрасит в его творчестве целое десятилетие — пятидесятые годы.
Сейчас, в «Дороге к миру», этот мотив идет как бы вторым голосом. А что — первым? Что определяет? Что связывает воедино эти сменяющиеся картины, в которых дан как бы срез истории войны: выход из окружения 1941 года — Сталинград — Курск — Харьков — Корсунь-Шевченковский — граница? Поэму держит разветвленная сетка сюжетных связей, личных судеб. Эти линии — логично ли или самым фантастическим образом — обязательно сходятся, смыкаются, кольцуются; люди, услышавшие друг о друге, в конце концов встречаются; попутчик, с которым герой поэмы вместе выходит из окружения, оказывается в финале тем комбатом, к которому приводят пленного, а пленный этот оказывается тем самым рыжим немцем, которого они с 1941 года запомнили в деревне под Брянском, когда во дворе упала перед ним на колени русская крестьянка.
Враги в поэме — уже не та сплошная, слепая масса, след которой ощущался в «Рабочем дне». Масса расчленена. Вот пленные идут толпой, опустив почерневшие лица… У них есть лица! Немец — контрагент нравственного действия. «Я хочу говорить с ним…» Не убить его, не сжечь, не вымести просто — говорить. Убить — это еще не разрешение вопроса. Надо главный вопрос решить, надо немца спросить кое о чем… «Не стесняйся, закури, подсудимый… Ты помнишь, у Брянска была деревенька?!» Деревенька 1941 года, хлипкий сарай, в котором спрятались окруженцы, а во дворе хозяйничают оккупанты, и сквозь щели сарая видно, как они уводят корову, и слышен бабий плач — хозяйка упала на колени: «Пан!..» И этот рыжий взглянул на нее и, усмехнувшись, бросил своим: «Dünger-menschen! Навозные люди…»
Удар пули, танковая атака, бомбежка, окружение, горящие города, рвы мертвецов, встречные бон, рукопашные схватки — все бледнеет перед этим небрежным словом. Можно перейти курганы черепов, но нельзя стерпеть «научный труд» герра профессора Бельфингера «Сравнительное изучение черепов и влияние их различий на ум». Можно месить грязь, навоз — дюнгер… Но невозможно стерпеть пощечину, невозможно, когда немка бьет батрачку, пригнанную с востока, по щекам. Можно сгореть в танке. Но идти на шаг сзади немецкого барина и мирно нести ему чемоданы невозможно! Само слово это произнести невозможно: «Барин…» — кровь в лицо бросается…
Здесь суть. Когда историки русской революции размышляли о движущих народных силах ее, то, учтя все социальные, экономические и политические причины, потом, после всего, замечали еще вот что: очень уж русский барин был не похож на русского мужика. Ходил не так, говорил непонятно, одевался иначе. Детали… А ранило, представьте, больней, чем капитальные имущественные контрасты. Презрением несло от этой непохожести. Почти иррациональная вставала ненависть. Ибо здесь было замешано достоинство.