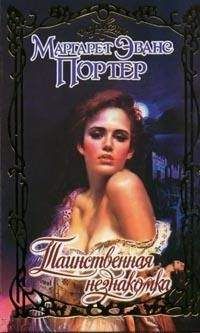Генрих Гейне - Стихотворения. Поэмы. Проза
Бимини
Перевод В. Левика
ПрологВера в чудо! Где ты ныне
Голубой цветок{357}, когда-то
Расцветавший так роскошно
В сердце юном человека!
Вера в чудо! Что за время!
Ты само чудесным было,
Ты чудес рождало столько,
Что не видели в них чуда.
Прозой будничной казалась
Фантастическая небыль,
Пред которою померкли
Сумасбродства всех поэтов,
Бредни рыцарских романов,
Притчи, сказки и легенды
Кротких набожных монахов,
Ставших жертвами костра.
Как-то раз лазурным утром
В океане, весь цветущий,
Как морское чудо, вырос
Небывалый новый мир,{358} —
Новый мир, в котором столько
Новых птиц, людей, растений,
Новых рыб, зверей и гадов,
Новых мировых болезней{359}!
Но и старый наш знакомец,
Наш привычный Старый Свет
В те же дни преобразился,
Расцветился чудесами,
Сотворенными великим
Новым духом новой эры, —
Колдовством Бертольда Шварца{360},
Ворожбой волхва из Майнца{361},
Заклинателя чертей;
Волшебством, царящим в книгах,
Поясненных ведунами
Византии и Египта, —
В сохраненных ими книгах,
Что зовутся в переводе
Книгой Красоты{362} одна,
Книгой Истины{363} — другая.
Их на двух наречьях неба,
Древних и во всем различных,
Сотворил господь, — по слухам,
Он писал собственноручно.
И, дрожащей стрелке вверясь,
Этой палочке волшебной,
Мореход нашел дорогу
В Индию{364}, страну чудес, —
В край, где пряные коренья
Размножаются повсюду
В сладострастном изобилье,
Где растут на тучной почве
Небывалые цветы,
Исполинские деревья —
Знать растительного царства
И венца его алмазы,
Где таятся мхи и травы
С чудодейственною силой,
Исцеляющей, иль чаще
Порождающей, недуги, —
По тому смотря, кто будет
Их давать: аптекарь умный
Иль венгерец из Баната,
Круглый неуч и дурак{365}.
И едва врата раскрылись
В этот сад, оттуда хлынул
Океан благоуханий,
Жизнерадостный и буйный
Ливень пьяных ароматов,
Оглушивших, затопивших,
Захлестнувших сердце мира,
Мира старого — Европу.
Как под огненною бурей,
Кровь людей огнем бурлила,
Клокотала дикой жаждой
Золота и наслаждений.
Стало золото девизом,
Ибо этот желтый сводник —
Золото — само дарует
Все земные наслажденья.
И когда в вигвам индейца
Заходил теперь испанец,
Он там спрашивал сначала
Золота, потом — воды.
Стали Мексика и Перу
Оргий золотых притоном.
Пьяны золотом, валялись
В нем и Кортес{366} и Писарро{367};
Лопес Вакка{368} в храме Кито{369}
Стибрил солнце золотое
Весом в тридцать восемь фунтов
И добычу в ту же ночь
Проиграл кому-то в кости, —
Вот откуда поговорка:
«Лопес, проигравший солнце
Перед солнечным восходом».
Да, великие то были
Игроки, бандиты, воры.
Люди все несовершенны,
Но уж эти совершали
Чудеса, перекрывая
Зверства самой разъяренной
Солдатни — от Олоферна
До Радецкого с Гайнау{370}.
В дни всеобщей веры в чудо
Чудеса вершат и люди, —
Невозможному поверив,
Невозможное свершишь.
Лишь глупец тогда не верил,
А разумный верил слепо;
Преклонял главу смиренно
Перед чудом и мудрец.
Из рассказов о героях
Дней чудесных веры в чудо,
Как ни странно, всех милее
Мне рассказ о дон Хуане
Понсе де Леон{371}, сумевшем
Отыскать в морях Флориду,
Но искавшем понапрасну
Остров счастья Бимини.
Бимини! Когда я слышу
Это имя, бьется сердце,
Воскресают к новой жизни
Грезы юности, далекой.
Но глаза их так печальны,
На челе венок увядший,
И над ними в нежной скорби
Мертвый плачет соловей.
Я ж, забыв свои недуги,
Так соскакиваю с ложа,
Что дурацкий балахон мой
Расползается по швам.
И тогда смеюсь я горько:
Ах, ведь это попугаи
Прохрипели так потешно,
Так печально: «Бимини!»
Помоги, святая муза,
Фея мудрая Парнаса,
Сделай чудо, покажи мне
Мощь поэзии священной!
Докажи, что ты колдунья,
Зачаруй мне эту песню,
Чтоб она волшебным судном
Поплыла на Бимини!
И едва я так промолвил,
Вмиг исполнилось желанье,
И смотрю, корабль волшебный
Гордо сходит с верфей мысли.
Кто со мной на Бимини?
Господа и дамы, просим!
Понесут волна и ветер
Мой корабль на Бимини.
Если мучает подагра
Благородных кавалеров,
Если милых дам волнует
Неуместная морщинка, —
Все со мной на Бимини!
Этот курс гидропатичен{372},
Он магическое средство
От зазорного недуга.
И не бойтесь, пассажиры,
Мой корабль вполне надежен:
Из хореев тверже дуба
Мощный киль его сработан,
Держит руль воображенье,
Паруса вздувает бодрость,
Юнги — резвые остроты,
На борту ль рассудок? Вряд ли!
Реи судна — из метафор,
Мачты судна — из гипербол,
Флаг романтикой раскрашен, —
Он, как знамя Барбароссы,
Черно-красно-золотой.
Я такое знамя видел
Во дворце горы Кифгайзер
И во франкфуртском соборе{373}.
В море сказочного мира,
В синем море вечной сказки
Мой корабль, мечте послушный,
Пролагает путь волшебный.
Перед ним в лазури зыбкой,
В водометах искр алмазных
Кувыркаются и плещут
Большемордые дельфины,
А на них амуры едут,
Водяные почтальоны, —
Раздувая тыквой щеки,
Трубят в раковины громко;
И причудливое эхо
Громовым фанфарам вторит,
А из темно-синей глуби
Смех доносится и хохот.
Ах, я знаю эти звуки,
Эту сладкую насмешку, —
То ундины{374} веселятся,
Издеваясь надо мной,
Над дурацкою поездкой,
Над дурацким экипажем,
Над моим дурацким судном,
Взявшим курс на Бимини.
На пустом прибрежье Кубы,
Над зеркально гладким морем
Человек стоит и смотрит
В воду на свое лицо.
Он старик, но по-испански,
Как свеча, и прям и строен;
В непонятном одеянье:
То ли воин, то ль моряк, —
Он в рыбацких шароварах,
Редингот — из желтой замши;
Золотой парчой расшита
Перевязь, — на ней сверкает
Неизбежная наваха
Из Толедо{375}; к серой шляпе
Прикреплен султан огромный
Из кроваво-красных перьев, —
Цвет их мрачно оттеняет
Огрубелое лицо,
Над которым потрудились
Современники и время.
Бури, годы и тревоги
В кожу врезали морщины,
Вражьи сабли перекрыли
Их рубцами роковыми.
И весьма неблагосклонно
Созерцает воин старый
Обнажающее правду
Отражение свое.
И, как будто отстраняясь,
Он протягивает руки,
И качает головою,
И, вздыхая, молвит горько:
«Ты ли — Понсе де Леон,
Паж дон Гомеса придворный?
Ты ль Хуан, носивший трен
Гордой дочери алькада{376}?
Тот Хуан был стройным франтом,
Ветрогоном златокудрым,
Легкомысленным любимцем
Чернооких севильянок.
Изучили даже топот
Моего коня красотки:
Все на этот звук кидались
Любоваться мной с балконов.
А когда я звал собаку
И причмокивал губами,
Дам бросало в жар и в трепет
И темнели их глаза.
Ты ли — Понсе де Леон,
Ужас мавров нечестивых, —
Как репьи, сбивавший саблей
Головы в цветных тюрбанах?
На равнине под Гренадой{377},
Перед всем Христовым войском,
Даровал мне дон Гонсальво
Званье рыцарским ударом.
В тот же день в шатре инфанты
Праздник вечером давали,
И под пенье скрипок в танце
Я кружил красавиц первых.
Но внимал не пенью скрипок,
Но речей не слушал нежных, —
Только шпор бряцанье слышал,
Только звону шпор внимал:
Ибо шпоры золотые
Я надел впервые в жизни
И ногами оземь топал,
Как на травке жеребенок.
Годы шли — остепенился,
Воспылал я честолюбьем
И с Колумбом во вторичный
Кругосветный рейс поплыл{378}.
Был я верен адмиралу, —
Он, второй великий Христоф{379},
Свет священный через море
В мир языческий принес.
Доброты его до гроба
Не забуду, — как страдал он!
Но молчал, вверяя думы
Лишь волнам да звездам ночи.
А когда домой отплыл он,
Я на службу к дон Охеда{380}
Перешел и с ним пустился
Приключениям навстречу.
Знаменитый дон Охеда
С ног до головы был рыцарь, —
Сам король Артур{381} подобных
Не сзывал за круглый стол.
Битва, битва — вот что было
Для него венцом блаженства.
С буйным смехом он врубался
В гущу краснокожих орд.
Раз, отравленной стрелою
Пораженный, раскалил он
Прут железный и, не дрогнув,
С буйным смехом выжег рану.
А однажды на походе
Заблудились мы в болотах,
Шли по грудь в вонючей тине,
Без еды и без питья.
Больше сотни в путь нас вышло,
Но за тридцать дней скитанья
От неслыханных мучений
Пали чуть не девяносто.
А болот — конца не видно!
Взвыли все; но дон Охеда
Ободрял и веселил нас
И смеялся буйным смехом.
После братом по оружью
Стал я мощному Бальбоа{382}.
Не храбрей Охеда был он,
Но умнее в ратном деле.
Все орлы высокой мысли
В голове его гнездились,
А в душе его сияло
Ярким солнцем благородство.
Для монарха покорил он
Край размерами с Европу,
Затмевающий богатством
И Неаполь и Брабант{383}.
И монарх ему за этот
Край размерами с Европу,
Затмевающий богатством
И Неаполь и Брабант,
Даровал пеньковый галстук:
Был на рыночном подворье,
Словно вор, Бальбоа вздернут
Посреди Сан-Себастьяна.
Не такой отменный рыцарь
И герой не столь бесспорный,
Но мудрейший полководец
Был и Кортес дон Фернандо.
С незначительной армадой{384}
Мы на Мексику отплыли.
Велика была пожива,
Но и бед не меньше было.
Потерял я там здоровье,
В этой Мексике проклятой, —
Ибо золото добыл
Вместе с желтой лихорадкой.
Вскоре я купил три судна,
Трюмы золотом наполнил
И поплыл своей дорогой, —
И открыл я остров Кубу{385}.
С той поры я здесь наместник
Арагона и Кастильи,
Счастлив милостью монаршей
Фердинанда и Хуаны.{386}
Все, чего так жаждут люди,
Я добыл рукою смелой:
Славу, сан, любовь монархов,
Честь и орден Калатравы{387}.
Я наместник, я владею
Золотом в дублонах, в слитках,
У меня в подвалах груды
Самоцветов, жемчугов.
Но смотрю на этот жемчуг
И всегда вздыхаю грустно:
Ах, иметь бы лучше зубы,
Зубы юности счастливой!
Зубы юности! С зубами
Я навек утратил юность
И гнилыми корешками
Скрежещу при этой мысли.
Зубы юности! О, если б
Вместе с юностью купить их!
Я б за них, не дрогнув, отдал
Все подвалы с жемчугами,
Слитки золота, дублоны,
Дорогие самоцветы,
Даже орден Калатравы, —
Все бы отдал, не жалея.
Пусть отнимут сан, богатство,
Пусть не кличут «ваша светлость»,
Пусть зовут молокососом,
Шалопаем, сопляком!
Пожалей, святая дева,
Дурня старого помилуй,
Посмотри, как я терзаюсь
И признаться в том стыжусь!
Дева! Лишь тебе доверю
Скорбь мою, тебе открою
То, чего я не открыл бы
Ни единому святому.
Ведь святые все — мужчины,
А мужчину даже в небе
Я, caracho,[27] проучил бы
За улыбку состраданья.
Ты ж, как женщина, о дева,
Хоть бессмертной ты сияешь
Непорочной красотой,
Но чутьем поймешь ты женским,
Как страдает бренный, жалкий
Человек, когда уходят,
Искажаясь и дряхлея,
Красота его и сила.
О, как счастливы деревья!
Тот же ветер в ту же пору,
Налетев осенней стужей,
С их ветвей наряд срывает, —
Все они зимою голы,
Ни один росток кичливый
Свежей зеленью не может
Над увядшими глумиться.
Лишь для нас, людей, различно
Наступает время года:
У одних зима седая,
У других весна в расцвете.
Старику его бессилье
Вдвое тягостней при виде
Буйства молодости пылкой.
О, внемли, святая дева!
Скинь с моих недужных членов
Эту старость, эту зиму,
Убелившую мой волос,
Заморозившую кровь.
Повели, святая, солнцу
Влить мне в жилы новый пламень,
Повели весне защелкать
Соловьем в расцветшем сердце,
Возврати щекам их розы,
Голове — златые кудри,
Дай мне счастье, пресвятая,
Снова стать красавцем юным!»
Так несчастный дон Хуан
Понсе де Леон воскликнул,
И обеими руками
Он закрыл свое лицо.
И стонал он, и рыдал он
Так безудержно и бурно,
Что текли ручьями слезы
По его костлявым пальцам.
И на суше верен рыцарь
Всем привычкам морехода,
На земле, как в море синем,
Ночью спать он любит в койке.
На земле, как в море, любит,
Чтоб его и в сонных грезах
Колыхали мягко волны, —
И качать велит он койку,
Эту должность исправляет
Кяка, старая индийка{388},
И от рыцаря москитов
Гонит пестрым опахалом.
И, качая в колыбели
Седовласого ребенка,
Напевает песню-сказку,
Песню родины своей.
Волшебство ли в этой песне
Или тонкий старый голос,
Птицы щебету подобный,
Полон чар? Она поет:
«Птичка колибри, лети,
Путь держи на Бимини, —
Ты вперед, мы за тобою
В лодках, убранных флажками.
Рыбка Бридиди{389}, плыви,
Путь держи на Бимини, —
Ты вперед, мы за тобою,
Перевив цветами весла.
Чуден остров Бимини,
Там весна сияет вечно,
И в лазури золотые
Пташки свищут: ти-ри-ли.
Там цветы ковром узорным
Устилают пышно землю,
Аромат туманит разум,
Краски блещут и горят.
Там шумят, колеблясь в небе,
Опахала пальм огромных,
И прохладу льют на землю,
И цветы их тень целует.
На чудесном Бимини
Ключ играет светлоструйный,
Из волшебного истока
Воды молодости льются.
На цветок сухой и блеклый
Влагой молодости брызни —
И мгновенно расцветет он,
Заблистает красотой.
На росток сухой и мертвый
Влагой молодости брызни —
И мгновенно опушится
Он зелеными листами.
Старец, выпив чудной влаги,
Станет юным, сбросит годы, —
Так, разбив кокон постылый,
Вылетает мотылек.
Выпьет влаги седовласый —
Обернется чернокудрым
И стыдится в отчий край
Уезжать молокососом.
Выпьет влаги старушонка —
Обращается в девицу
И стыдится в отчий край
Возвращаться желторотой.
Так пришлец и остается
На земле весны и счастья,
И не хочет он покинуть
Остров молодости вечной.
В царство молодости вечной,
На волшебный Бимини,
В чудный край мечты плыву я, —
Будьте счастливы, друзья!
Кошка-крошка Мимили{390},
Петушок Кики-рики,
Будьте счастливы, мы больше
Не вернемся с Бимини».
Так старуха пела песню,
И дремал и слушал рыцарь,
И порой сквозь сон по-детски
Лепетал он: «Бимини!»
Лучезарно светит солнце
На залив, на берег Кубы,
И поют весь день сегодня
В синеве небесной лютни.
Зацелованный весною,
Изумрудами блистая,
В пышном платье подвенечном
Весь цветет прекрасный берег.
И толпится на прибрежье
Пестрый люд разноголосый,
Разных возрастов и званий, —
Ибо все полны одним:
Все полны одной чудесной,
Ослепительной надеждой,
Отразившейся и в тайном
Умилении сердечном
Той бегинки{391}-старушонки,
Что с клюкою ковыляет
И перебирает четки,
Повторяя «Pater noster»,[28]
И в улыбке той сеньоры
В золоченом паланкине,
Что раскинулась небрежно
С томной розою во рту
И кокетничает с юным
Знатным щеголем, который
Выступает важно рядом
И надменный крутит ус.
Даже солдатня сегодня
Смотрит мягче и приятней,
Даже облик духовенства
Стал как будто человечней.
В упоенье потирает
Руки тощий чернорясец,
И кадык самодовольно
Гладит жирный капуцин.
Сам епископ — в храме божьем
Неизменно злой и хмурый,
Потому что из-за мессы
Он откладывает завтрак, —
Сам епископ в митре пышной
Вдруг расцвел улыбкой счастья,
И прыщи сияют счастьем
На малиновом носу.
Окруженный хором певчих,
Под пурпурным балдахином.
Он идет, за ним прелаты
В золотых и белых ризах,
С ярко-желтыми зонтами, —
Словно вышел на прогулку
Неким чудом оживленный
Лес гигантских шампиньонов.
Весь кортеж стремится к морю,
Где под знойно-синим небом
На траве, близ вод лазурных,
Возведен алтарь господень,
На котором блещут ленты,
Серпантин, цветы, иконы,
Мишура, сердца из воска
И ковчежцы золотые.
Сам его преосвященство
Будет там служить молебен,
И молитвой, и кропилом
Он благословит в дорогу
Небольшой нарядный флот,
Что качается на рейде,
С якорей готовый сняться
И отплыть на Бимини.
Это судна дон Хуана
Понсе де Леон, — правитель
Снарядил их, оснастил их
И плывет искать волшебный
Остров счастья. И, ликуя,
Весь народ благословляет
Исцелителя от смерти,
Благодетеля людей, —
Ибо всем приятно верить,
Что правитель, возвращаясь,
Каждому захватит фляжку
С влагой молодости вечной.
И уж многие заране
Тот напиток предвкушают
И качаются от счастья,
Как на рейде корабли.
Пять судов стоят на рейде
В ожиданье — две фелуки,
Две проворных бригантины
И большая каравелла.
Каравеллу украшает
Адмиральский флаг с огромным
Тройственным гербом Леона,
Арагона и Кастильи{392}.
Как садовая беседка,
Весь корабль увит венками,
Разноцветными флажками
И гирляндами цветов.
Имя корабля — «Сперанца».
На корме стоит большая
Деревянная скульптура, —
Это госпожа Надежда.
Мастер выкрасил фигуру
И покрыл отличным лаком,
Так что краски не боятся
Ветра, солнца и воды.
Медно-красен лик Надежды,
Медно-красны шея, груди,
Выпирающие дерзко
Из зеленого корсажа.
Платье, лавры на челе —
Тоже зелены. Как сажа —
Волосы, глаза и брови,
А в руках, конечно, якорь.
Экипаж судов — примерно
Двести человек; меж ними
Восемь женщин, семь прелатов.
Сто знатнейших кавалеров
И единственная дама
Поплывут на каравелле,
На которой командором
Будет сам правитель Кубы
Дон Хуан. Избрал он дамой
Кяку, — да, старушка Кяка
Стала донною, сеньорой
Хуанитой, ибо рыцарь
Даровал ей сан и званье
Главкачательницы коек,
Лейб-москито-мухогонки,
Обер-кравчей Бимини.
Как эмблема власти новой
Золотой вручен ей кубок,
И она — в тунике длинной,
Как приличествует Гебе{393}.
Кружева и ожерелья
Так насмешливо белеют
На морщинистых, увядших,
Смуглых прелестях сеньоры.
Рококо-антропофагно,
Караибо-помпадурно{394}
Возвышается прическа,
Вся утыканная густо
Пташками с жука размером,
И они сверкают, искрясь
Многокрасочным нарядом,
Как цветы из самоцветов.
Пестрый птичник на прическе
Удивительно подходит
К попугайскому обличью
Бесподобной донны Кяки.
Образину дополняет
Дон Хуан своим нарядом,
Ибо он, поверив твердо
В близкий час омоложенья,
Уж заране нарядился
Модным щеголем, юнцом:
Он в сапожках остроносых
С бубенцами, как прилично
Лишь мальчишке, в панталонах
С желтой левою штаниной,
С фиолетовою правой,
В красном бархатном плаще;
Голубой камзол атласный,
Рукава — в широких складках;
Перья страуса надменно
Развеваются на шляпе.
Расфранченный, возбужденный,
Пританцовывает рыцарь
И, размахивая лютней,
Приказанья отдает.
Он приказывает людям
Якоря поднять, как только
С берега сигнал раздастся,
Возвестив конец молебна;
Он приказывает людям
Дать из пушек в миг отплытья
Тридцать шесть громовых залпов,
Как салют прощальный Кубе.
Он приказывает людям
И, смеясь, волчком вертится,
Опьяненный буйным хмелем
Обольстительной надежды;
И, смеясь, он щиплет струны, —
И визжит и плачет лютня,
И разбитым козлетоном
Блеет рыцарь песню Кяки:
«Птичка колибри, лети,
Рыбка Бридиди, плыви,
Улетайте, уплывайте,
Нас ведите к Бимини».
Ни глупцом, ни сумасшедшим
Дон Хуан, конечно, не был,
Хоть пустился, как безумец,
Плыть на остров Бимини.
В том, что остров существует,
Он не мог и сомневаться;
Песню Кяки он считал
И порукой и залогом.
Больше всех на свете верит
Мореход в возможность чуда, —
Перед ним всегда сияет
Чудо пламенное неба,
И таинственно рокочут
Вкруг него морские волны,
Из которых вышла древле
Донна Венус Афродита.
В заключительных трохеях
Мы правдиво повествуем,
Сколько бед, надежд и горя
Претерпел, скитаясь, рыцарь.
Ах, своей болезни прежней
Не сумел изгнать бедняга,
Но зато добыл немало
Новых ран, недугов новых.
Он, отыскивая юность,
С каждым днем старел все больше,
И калекой хилым, дряхлым
Наконец приплыл в страну —
В ту страну, в предел печальный,
В тень угрюмых кипарисов,
Где шумит река, чьи волны
Так чудесны, так целебны.
Та река зовется Летой.
Выпей, друг, отрадной влаги —
И забудешь все мученья,
Все, что выстрадал, забудешь.
Ключ забвенья, край забвенья!
Кто вошел туда — не выйдет,
Ибо та страна и есть
Настоящий Бимини.
ПРОЗА