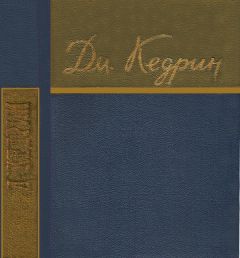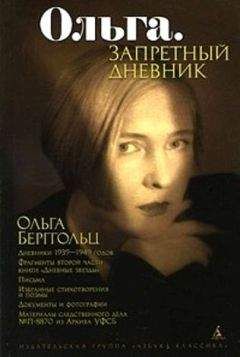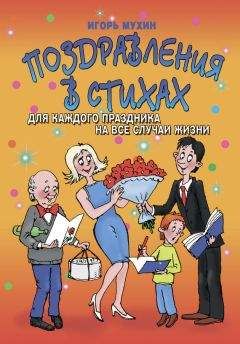Иосиф Бродский - Стихотворения и поэмы (основное собрание)
от всех объектов памяти, при муже.
Подлодка выплывает из пучин.
Поселок спит. И на краю земли
дверь хлопает. И делается у'же
от следствий расстояние причин.
Бомбардировщик стонет в облаках.
Хорал лягушек рвется из канавы.
Позванивает горка хрусталя
во время каждой стойки на руках.
И музыка струится с Окинавы,
журнала мод страницы шевеля.
7. А. Фролов
Альберт Фролов, любитель тишины.
Мать штемпелем стучала по конвертам
на почте. Что касается отца,
он пал за независимость чухны,
успев продлить фамилию Альбертом,
но не видав Альбертова лица.
Сын гений свой воспитывал в тиши.
Я помню эту шишку на макушке:
он сполз на зоологии под стол,
не выяснив отсутствия души
в совместно распатроненной лягушке.
Что позже обеспечило простор
полету его мыслей, каковым
он предавался вплоть до института,
где он вступил с архангелом в борьбу.
И вот, как согрешивший херувим,
он пал на землю с облака. И тут-то
он обнаружил под рукой трубу.
Звук -- форма продолженья тишины,
подобье развивающейся ленты.
Солируя, он скашивал зрачки
на раструб, где мерцали, зажжены
софитами, -- пока аплодисменты
их там не задували -- светлячки.
Но то бывало вечером, а днем -
днем звезд не видно. Даже из колодца.
Жена ушла, не выстирав носки.
Старуха-мать заботилась о нем.
Он начал пить, впоследствии -- колоться
черт знает чем. Наверное, с тоски,
с отчаянья -- но дьявол разберет.
Я в этом, к сожалению, не сведущ.
Есть и другая, кажется, шкала:
когда играешь, видишь наперед
на восемь тактов -- ампулы ж, как светочь
шестнадцать озаряли... Зеркала
дворцов культуры, где его состав
играл, вбирали хмуро и учтиво
черты, экземой траченые. Но
потом, перевоспитывать устав
его за разложенье колектива,
уволили. И, выдавив: "говно!"
он, словно затухающее "ля",
не сделав из дальнейшего маршрута
досужих достояния очес,
как строчка, что влезает на поля,
вернее -- доводя до абсолюта
идею увольнения, исчез.
___
Второго января, в глухую ночь,
мой теплоход отшвартовался в Сочи.
Хотелось пить. Я двинул наугад
по переулкам, уходившим прочь
от порта к центру, и в разгаре ночи
набрел на ресторацию "Каскад".
Шел Новый Год. Поддельная хвоя
свисала с пальм. Вдоль столиков кружился
грузинский сброд, поющий "Тбилисо".
Везде есть жизнь, и тут была своя.
Услышав соло, я насторожился
и поднял над бутылками лицо.
"Каскад" был полон. Чудом отыскав
проход к эстраде, в хаосе из лязга
и запахов я сгорбленной спине
сказал: "Альберт" и тронул за рукав;
и страшная, чудовищная маска
оборотилась медленно ко мне.
Сплошные струпья. Высохшие и
набрякшие. Лишь слипшиеся пряди,
нетронутые струпьями, и взгляд
принадлежали школьнику, в мои,
как я в его, косившему тетради
уже двенадцать лет тому назад.
"Как ты здесь оказался в несезон?"
Сухая кожа, сморщенная в виде
коры. Зрачки -- как бе'лки из дупла.
"А сам ты как?" "Я, видишь ли, Язон.
Язон, застярвший на зиму в Колхиде.
Моя экзема требует тепла..."
Потом мы вышли. Редкие огни,
небес предотвращавшие с бульваром
слияние. Квартальный -- осетин.
И даже здесь держащийся в тени
мой провожатый, человек с футляром.
"Ты здесь один?" "Да, думаю, один".
Язон? Навряд ли. Иов, небеса
ни в чем не упрекающий, а просто
сливающийся с ночью на живот
и смерть... Береговая полоса,
и острый запах водорослей с Оста,
незримой пальмы шорохи -- и вот
все вдруг качнулось. И тогда во тьме
на миг блеснуло что-то на причале.
И звук поплыл, вплетаясь в тишину,
вдогонку удалявшейся корме.
И я услышал, полную печали,
"Высокую-высокую луну".
1966 -- 1969
-----------------
x x x
Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою
любовницу -- из чистой показухи.
Он произнес: "Теперь она в Раю".
Тогда о нем курсировали слухи,
что сам он находился на краю
безумия. Вранье! Я восстаю.
Он был позер и даже для старухи -
мамаши -- я был вхож в его семью -
не делал исключения.
Она
скитается теперь по адвокатам,
в худом пальто, в платке из полотна.
А те за дверью проклинают матом
ее акцент и что она бедна.
Несчастная, она его одна
на свете не считает виноватым.
Она бредет к троллейбусу. Со дна
сознания всплывает мальчик, ласки
стыдившийся, любивший молоко,
болевший, перечитывавший сказки...
И все, помимо этого, мелко!
Сойти б сейчас... Но ехать далеко.
Троллейбус полн. Смеющиеся маски.
Грузин кричит над ухом "Сулико".
И только смерть одна ее спасет
от горя, нищеты и остального.
Настанет май, май тыща девятьсот
сего от Р. Х., шестьдесят седьмого.
Фигура в белом "рак" произнесет.
Она ее за ангела, с высот
сошедшего, сочтет или земного.
И отлетит от пересохших сот
пчела, ее столь жалившая.
Дни
пойдут, как бы не ведая о раке.
Взирая на больничные огни,
мы как-то и не думаем о мраке.
Естественная смерть ее сродни
окажется насильственной: они -
дни -- движутся. И сын ее в бараке
считает их, Господь его храни.
1969
-----------------
x x x
А здесь жил Мельц. Душа, как говорят...
Все было с ним до армии в порядке.
Но, сняв противоатомный наряд,
он обнаружил, что потеют пятки.
Он тут же перевел себя в разряд
больных, неприкасаемых. И взгляд
его померк. Он вписывал в тетрадки
свои за препаратом препарат.
Тетрадки громоздились.
В темноте
он бешено метался по аптекам.
Лекарства находились, но не те.
Он льстил и переплачивал по чекам,
глотал и тут же слушал в животе.
Отчаивался. В этой суете
он был, казалось, прежним человеком.
И наконец он подошел к черте
последней, как мне думалось.
Но тут
плюгавая соседка по квартире,
по виду настоящий лилипут,
взяла его за главный атрибут,
еще реальный в сумеречном мире.
Он всунул свою голову в хомут,
и вот, не зная в собственном сортире
спокойствия, он подал в институт.
Нет, он не ожил. Кто-то за него
науку грыз. И не преобразился.
Он просто погрузился в естество
и выволок того, кто мне грозился
заняться плазмой, с криком "каково!?"
Но вскоре, в довершение всего,
он крепко и надолго заразился.
И кончилось минутное родство
с мальчишкой. Может, к лучшему.
Он вновь
болтается по клиникам без толка.
Когда сестра выкачивает кровь
из вены, он приходит ненадолго
в себя -- того, что с пятками. И бровь
он морщит, словно колется иголка,
способный только вымолвить, что "волка
питают ноги", услыхав: "Любовь".
1969
-----------------
x x x
А здесь жила Петрова. Не могу
припомнить даже имени. Ей-Богу.
Покажется, наверное, что лгу,
а я -- не помню. К этому порогу
я часто приближался на бегу,
но только дважды... Нет, не берегу
как память, ибо если бы помногу,
то вспомнил бы... А так вот -- ни гу-гу.
Верней, не так. Скорей, наоборот
все было бы. Но нет и разговору
о чем-то ярком... Дьявол разберет!
Лишь помню, как в полуночную пору,
когда ворвался муж, я -- сумасброд -
подобно удирающему вору,
с балкона на асфальт по светофору
сползал по-рачьи, задом-наперед.
Теперь она в милиции. Стучит
машинкою. Отжившие матроны
глядят в окно. Там дерево торчит.
На дереве беснуются вороны.
И опись над кареткою кричит:
"Расстрелянные в августе патроны".
Из сумки вылезают макароны.
И за стеной уборная журчит.
Трагедия? О если бы.
1969
-----------------
x x x
Я начинаю год, и рвет огонь
на пустыре иссохшей елки остов
-- обглоданного окуня скелет!
И к небу рвется новый Фаэтон,
и солнце в небесах плывет, как остров,
и я на север мчусь в расцвете лет.
Я начинаю год на свой манер,
и тень растет от плеч моих покатых,
как море, разевающее зев
всем женогрудым ястребам галер,
всем ястребиным женщинам фрегатов,
всем прелестям рыбоподобных дев.
Ах, Аполлон, тебе не чужд словарь
аргосский и кудрявый календарь,
так причеши мой пенный след трезубцем!
Когда гремит за окнами январь,