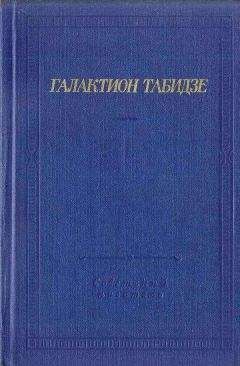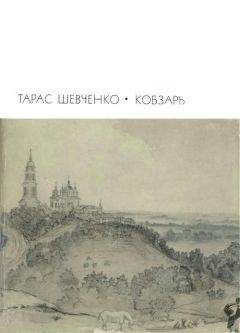Максим Рыльский - Стихотворения и поэмы
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
© Перевод В. Цвелёв
Та й сон же, сон напрочуд дивний,
Мені приснився…[110]
Тибурций спал и странный видел сон:
Он девушкам играл, как Аполлон
В собранье муз, на лире благородной,
Серебряной, с большой бутылью сходной
Напоминал ее мелодий звук
И звон ножей, и вилок перестук.
Все возлежали на пурпурных ложах,
В венках из роз, на рюмки чуть похожих…
И вдруг — иная греза низошла:
Громады гор. Клубящаяся мгла
В расщелинах. Тропинкой каменистой
К пещере, обветшалой и нечистой,
Его ведут. И голоса вдали
В какой-то хищный шепот перешли
И смолкли. Мрак. Молчанье. Злое место…
Он спит! Проснуться нужно! — Наконец-то!
Он делает неосторожный шаг
И падает. Каменья, желтый прах
Посыпались. О боже, правый боже!
Как твердо это каменное ложе!
Как холодно! Забили зубы дробь…
Ужели здесь лежать? Лежать по гроб?
От музы и от жизни отрешиться?..
Но вдруг открылась новая страница —
И на губах улыбка вновь дрожит,
И лунный свет серебряный царит
В опочивальне, где он как бы спящим
Прикинулся. Сейчас ведь в шелестящем
Наряде девушка войдет — она,
Чей взор пьянее крепкого вина,
Пьянит сильней, чем все на свете вина.
Он вспомнил: да, ее зовут Марина,
Ее он видел, где же и когда?
Он вновь силен, как раньше, как всегда,
Объятием он встретит, жарче бури,
Как мусульманин мусульманских гурий,
Ее, ее, — она как снег бела,
Вот легкой ножкой на порог взошла,
Приблизила соблазны нежной груди
И… свят, свят, свят!.. А это что за люди?
Не люди, твари с псиной головой
К нему идут… Старик, как неживой,
Под одеялом спрятавшись, не дышит,
А вражья сила всё сильней колышет
Матрац, — когтями рвет его она,
И мнет, и крутит. А в стекле окна
Всё новые мерещатся кошмары,
Сквозь стены лезут. Это, видно, кара —
Тот час неумолимого суда,
Его же не избегнуть никогда!
Тибурций, корчась, за матрац схватился
И колесом в постели закружился
От потолка до пола. Голова
Не знает уж, жива иль не жива,
А тело всё то жаром осыпает,
То льдинками…
И снова выплывает
Из мглы Марина, но черты лица
Вдруг расплылись без меры, без конца,
Нос — у шарманки ручка, и шарманщик
Вращает ручку, и поет органчик
Мотив свой ядовитый что есть сил…
Какой мотив?.. Да тот, что он испил
Сегодня с неразбавленным токаем!
Мы со времен Шекспира твердо знаем:
Кто красочно рассказывает сны,
Тот просто врет. Бездонной глубины
Тех хаосов, что называют снами,
Обычными не выразить словами.
Для этого быть надо Львом Толстым.
Поэтому мы просто умолчим
О всех деталях. Было их немало:
Тибурций пообедал до отвала,
Изрядно выпил, и конца тем снам
Доискиваться вряд ли стоит нам.
Шарманки удивительное пенье
Предвосхищало чудо пробужденья.
Тибурций потянулся и зевнул,
Курильщик закоснелый, протянул
За трубкой руку — закурить скорее —
Открыл глаза и замер:
«Боже, где я?
Да где же я? Ох, снова сон плохой!
Да нет, не сон».
Подвал полусырой.
Лежит поэт не в спальне — на соломе!
Зловеще тихо. Ни предмета, кроме
Теней застывших по углам. Сюда
Полоской проникает, как вода,
В оконце, сквозь решетку, лучик сирый.
Должно быть, утро. Вот концовка пира!
Да что ж это такое всё же? Как
Сюда попал? К разбойникам в овраг
Заехал? Или сам стал лиходеем?
Ох, люди! Никогда мы не умеем
Предвидеть пропасть, где беда нас ждет.
Мы рвем цветы, пьем ароматный мед,
Когда в цветах — змея, в меду — отрава!
Не смог Тибурций разобраться здраво,
Какого черта он лежит, как брус, —
Он к философии утратил вкус
И слабость к златоустому рассказу.
В истории поэзии ни разу
Подобных не отмечено вещей.
Ночь волшебства. Кого спросить о ней?
Что с ним стряслось?
Но стены всё молчали…
Теперь он вспомнил: в оживленном зале
С гостями оживленными он был,
Ну, гости пили, и Тибурций пил,
Читал стихи им, упивался славой…
А дальше… Что же дальше? Боже правый!
Забыл! Ну да! Не помню — и конец.
Так вот запомни, старый удалец,
Как напиваться даровым венгерским!
Перед гостями показаться дерзким
И молодым ты вздумал? Что ж потом?
Ну, выпил. Ну, заснул. Каким путем
В подвал ты всё же угодил безвинно,
В потемки? Белолицую Марину
Ведь он не называл. Держать язык
Он за зубами смолоду привык,
Интрижки с малых лет вел осторожно.
Двусмысленное что-нибудь, возможно,
Болтнул вчера, — но повод слишком мал,
Чтобы тащить и запирать в подвал,
В таких делах отнюдь мы не виновны,
Какие суд карает уголовный.
А с той поры, как увидал поэт
Сей суетный и лицемерный свет,
Дурным примером не прельщался малый,
Не убивал, да и украл, пожалуй,
У Кохановского лишь пару строк…
А вот глядите — взяли под замок,
И заперли снаружи (что есть силы
Он дверь толкал)… И темнота могилы,
И сырость. И решетка на окне.
«О горе грешнику, о горе мне!
За что такие суждены мне муки?» —
Воздел старик трепещущие руки
И, как ребенок малый, зарыдал.
Кто в сходных положеньях не бывал,
Того б, конечно, это удивило.
Меж тем светало. Утро наступило.
Людская речь вливалась в птичий хор,
Рождая неотчетливый аккорд,
И в темноте подвала всё тонуло.
Но за окошком что-то промелькнуло —
Послышались шаги — к окну приник
Усатый кто-то… Бедный наш старик
Весь встрепенулся: значит, скоро тайна
Раскроется. Всё сделалось случайно…
Прислуга промах сделала небось…
Где ночевать? Как в улей натолклось
Гостей, как на пожар все набежали.
Его пока приткнули тут, в подвале…
Да, да. Конечно… «А замок дверной?
Да и решетка?» Снова мыслей рой,
Как молнии, догадки промелькнули.
Увы, надежды, вспыхнув, обманули,
И еще горше тьма подобралась.
И усача узнал он: боже! Ясь!
Да, Пшемысловского лакей любимый!
Он непорядка не пропустит мимо!
Что ж он молчит, так призрачно возник?
Всё это продолжалось только миг,
Но миг тот целой вечностью казался.
Поэт дрожащий с мыслями собрался,
Упавшим голосом заговорил:
«Что ж это я…»
Тот палец приложил
К губам: молчи, старик, пойдешь на плаху!
Тут зашатался наш поэт от страху.
Безмолвный дух в окно, наискосок,
Просунул хлеба черствого кусок,
Потом и кружку медную с водою.
«Да наконец скажи мне, что со мною?» —
В отчаянье Тибурций простонал.
Тсс! Тише! Пан наказ строжайший дал
Отнюдь с убийцей не вступать в беседу.
С убийцей?..
Да. Губернский суд к обеду
Приедет — вот тогда и разберут
Там, что к чему… Ох, горюшко! Идут!..
Лакей исчез, как будто канул в воду.
Нет сил терпеть напрасную невзгоду,
Когда не знаешь, как она стряслась
И чем окончится. Усатый Ясь
Не разогнал, усугубил волненье.
В отчаянии крайнем и в смятенье
Поэт лицо ладонями закрыл
И зарыдал, и горько слезы лил.
Минуты шли, свой счет унылый множа,
И было слышно: день плывет погожий,
Ведет корабль победоносный свой…
А что ему до радости земной,
До солнца красного, до нив зеленых?
О сборище кандальников клейменых,
Убийцы, чей удел — гнилой острог!
Несчастны вы — но каждый узник мог
Назвать бы день, и место, и причину,
Приведшие в зловонную пучину.
Но странствующий, уж в годах, поэт…
И гости — пышного дворянства цвет…
Обилье яств и пенные бокалы…
А дальше — мрак… Кошмаров, видно, мало —
Действительность ужаснее: подвал…
Он — душегуб. Усач ему сказал
В оконце… День цветущий за стеною,
А он в темнице, с хлебом и с водою.
Он — душегуб! Но всё же, что и как
Случилось с ним?
И в этот миг чудак
Вновь слышит голос за стеной:
«Мой пане,
Здесь я, Петро́!»
Петро, Петро, желанный!
Милейший ключник! Не однажды он,
Когда поэт, читателей лишен,
Служил жрецом владыки Аполлона,
Внимал словам, случалось, и соленым
(Ясней сказать: отчасти не для дам…).
«Мой пане… Я помочь хотел бы вам…
Бежать не поздно… Вот лопата, нате…
Под вечер…»
— «Но скажи, голубчик, кстати…»
— «Мне некогда… И могут подследить…
Вам тут совсем немножко и пробить:
Копайте только справа, под стеною,
И к вечеру расстанетесь с тюрьмою,
А я вас спрятать место присмотрю…»
— «Петро, мой милый!»
— «Ладно… говорю:
Живей копайте!»
Вечер. Посвежело.
Звенят в колодце ведра то и дело,
Собаки лают. На востоке тьма,
На западе кровавая тесьма
Закатная. Нам песня рассказала,
Как Бондаривна о беде узнала.
Шепнули люди: «Убегай скорей!
Ты не найдешь защиты у людей, —
Канёвский-пан не шутит, судит скоро…»
Оврагом, лесом да в ночную пору
Бежала Бондаривна от врага,—
Но где ступала девичья нога,
Где черевички легкие ступали,
Там алой крови струйки побежали…
Так черный всадник, солнышко догнав,
Схватил его за золотой рукав,
С размаху круто полоснул булатом,
И кровь зарделась в небе бледноватом
И огненной струей ушла в зенит.
Веселья столько, что в ушах звенит,
У пана Пшемысловского в покоях!
Где пять панов уселись — словно сто их!
Сегодня Людвиг — сын «поры златой» [111] —
Велел накрыть столы, где меньше зной,
Под липами — там светотень живая,
Узоры ювелирные сплетая,
Стелила легкий силуэт ветвей.
А дальше, несколько шагов левей,
Под вишней — старый погреб, память деда.
Вдруг деловито подтолкнул соседа
Пан Замитальский: мол, гляди, гляди!
И прошептал: «Немножко подожди,
Немножечко…»
Ну, выдумал потеху!
Уж это да, не оберешься смеху!
Покойный дед мой… это было в год,
Когда он с вашим дедом шел в поход
На…
Как же, как же! Их обоих вместе
Вписали в книгу доблести и чести.
Да, да! Да, да! Так дед еще, скажу,
Умел шутить… А я не нахожу
Теперь веселья прежнего!
Еще бы,
Теперь живем, как волки в тьме чащобы!
Да, шалость в духе старых добрый дней
Под силу только старшим. Тем ценней!
Тепло на сердце, словно праздник божий!
Так, значит, дед. Отец-покойник тоже…
Главу я вскоре приведу к концу
И без задержки подарю чтецу
(Читателю, конечно: извините!)
Все основные тайны нашей нити.
Был в погребе Тибурций заключен,
Как будто дерзко преступил закон,
Хоть не обидел мухи бедный малый.
Но Замитальский шуткой разудалой
Дворянское вниманье подогрел.
Когда поэт, как говорят, дозрел, —
Токайское в своем считая стиле,—
Его лакеи в погреб оттащили,
Смеясь глумливо, но исподтишка.
Теперь схватилось панство за бока
Под громкий смех: ведь случай без примера!
Тибурций вылез, словно из пещеры,
Косматый и комичный, как медведь.
Притом, читатель дорогой, заметь —
Седых волос немудрые остатки
Тибурций в живописном беспорядке
Всегда держал, как музы верный сын.
Еще заметь: не в краткий миг один
Он проложил счастливый путь к спасенью,
Хотя и по прямому направленью,
Хотя и весельчак Петро помог.
Хмельной синклит ну просто изнемог
От хохота: «Вот чучело-то, боже!
Глаза! Глаза-то на багровой роже!
Ишь выпучил — точь-в-точь вареный рак!»
Умело подшутить еще не так
Дворянство старое, на радость сердцу,
Умело подсыпа́ть в тарелку перцу,—
Конечно, чужакам, своих не бьют.
Ружье, нагайка, розга, сабля, кнут —
Для развлеченья знати всё годилось.
Попался нищий — ну-ка, сделай милость,
На вербу лезь! И будешь куковать!
Потом в «кукушку» невзначай послать
Заряд из шомполки: давно набита!
Считалось это шуткой знаменитой,
Находчивой!.. Я случаев таких
Вам мог бы почерпнуть из старых книг
Не два, не три, а может быть, поболе.
Из слез кровавых, из предсмертной боли,
Из синяков на молодых плечах,
Из воплей девичьих в глухих ночах,
Из седины, потоптанной бесчинно
Сафьяновою туфлей господина,
Из диких оргий, где, под пьяный шум,
Над всем святым глумился барский ум,
Неистовый, и в алчном своеволье
Детей травил борзыми в чистом поле,—
Шляхетский смех «великородный» рос…
Всем представленье по душе пришлось,
Что Замитальский дал у Пшемысловских.
На Украине штукарей таковских
Немало попадалось в те года!
Тибурций! Плачь, раз просят господа,
Рви волосы: смеяться панство хочет!
Всё это брюха сытые щекочет,
В пищеваренье помогает им…
Свой стыд стишком запечатлей смешным.
Раз шут, получишь — должность, брат, такая —
Кусок жаркого и бокал токая.
ГЛАВА ПЯТАЯ