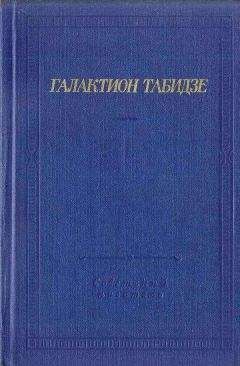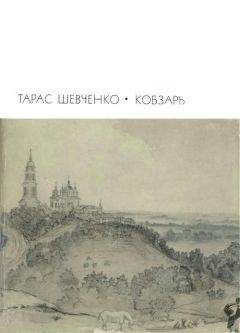Максим Рыльский - Стихотворения и поэмы
ГЛАВА ВТОРАЯ
© Перевод В. Рождественский
Коло броду беру воду,
По тім боці — мої карі очі!
Там козаченько коня напуває
Та на цей бік поглядає[107].
Однажды как-то, за недолгий час
До скачек, — а они на днях как раз
Должны начаться, — на пекарне челядь
Сошлась. Был час, в который тени стелют
Постель для ночи в голубых шелках.
Вишневый сад — он был еще в цветах, —
Дань первую отдав гудящим пчелам,
Дремал и грезил. Где-то там, над долом,
Чуть слышно было песню: в поводу
Вели коней в ночное. На пруду
Сбиралось на беседу жабье племя.
Эх, братцы! Иль забыли вы то время,
Когда нам юность до зари уснуть
Не позволяла? Как светился путь
Меж черными безмолвными дубами!
Бог с ними, с теми давними годами:
Они прошли — и отшумел их шум!
Рассказчик неустанный, дед Наум,
Знаток вина и кухонных изделий,
Быль с небылью сплетал (мели, Емеля!),
Недаром старый с ведьмами знаком,
Что в кошку превращаются, клубком
Под ноги скачут, людям козни строят,
Коров в подойник черной ночью до́ят.
Днем женщины они, их не узнать,
Хотя горазды языком трепать,—
Да весь их род в том деле одинаков…
А вспомните злосчастных вурдалаков!
Ведь одного Наумов брат, Матвей
(Не верите? Вот бог меня убей!
Герасима-покойника вы сами
Спросили бы!), застукал под сенями
И топором с размаху порубал.
Потом Петро искал и перестал
Искать сынишку: словно канул в воду!
И сам Наум ту бесову породу
Разок видал. Уже который год
Об этом помнит: в церковь шел народ,
Спеша на свадьбу поглядеть. Микита
(Он всё, бывало, ходит деловито
И крутит черные усы) к венцу
Маланку вел! Уже и пан-отцу
Сказали, напекли и наварили,
Бочонок с оковытою купили
В корчме яхнянской, все уже сошлись, —
И на́ тебе! Откуда ни возьмись,
Явился дед, махнул вот так рукою,
Сверкнул глазами, топнул раз ногою —
И весь народ в смятении примолк:
Глядят — Микиты нет, лишь серый волк
Завыл возле Маланки, приласкался,
Потерся о колени и убрался,
Через дорогу прыгая. А дед
Растаял, словно снег, — пропал и след!
Развеялся, что дым. Вот как бывало!
Да и теперь у нас чудес немало
По свету ходит…
Дальше перешло
На то, о чем, и спать ложась, село,
И подымаясь, думало: такие
Ловили жадно слухи кре́постные —
Казалось им, что скоро день придет,
Когда… Об этом уж поет народ,
Да потихоньку — и у стен есть уши, —
Когда уже их больше не задушит
Насилье панское. Мол, написал
Бумагу царь про волю, да украл
Бумагу эту кто-то… Только скоро
Придет она… Любили разговоры
О том, как бился храбро гайдамак.
Вставал перед глазами буерак,
Степная ночь, стреноженные кони
И острый, освященный нож в ладони.
«Эх, кабы нам!..»
— «Цыц! Надо помолчать!
Теперь уже совсем недолго ждать
Поры желанной. Только б Кутернога,
Подлиза, панский пес…»
— «За ним, ей-богу,—
В речь старших молодой словцо ввязал,—
Пан спозаранку нынче посылал,
Чтоб из села к нему живой рукою
Привел Марину…»
— «Как? Дитя такое?»
— «Ну да. Годок шестнадцатый уж ей
На днях пойдет…»
Костра лесного злей,
Наум вдруг вспыхнул. Как стрела из лука,
Была та новость. Внучка! Что за мука!
Мариночку! В усадьбу! Негодяй!
Уж он ее приметил! Да пускай
Он с теми забавлялся бы, кто знает,
Зачем их пан в покои призывает,
Те немощную греть умеют плоть…
Ах, если б лысый череп расколоть,
Добраться до очей его проклятых!
Молчит Наум — затем что ночь у хаты
И кто-то под окном уж шелестит…
Здесь каждый горе про себя таит,
Нужда от всех скрываться приучила,
Мариночка моя! Ребенок милый!
Бывало, подарит ему судьба
Свободный час (порой и у раба
Свободная минутка выпадает) —
Наум скорее свитку надевает,
В платок гостинец завернет едва,
Идет в село: там дочь его, вдова,
Встречает тотчас старика поклоном,
И он подарок достает смущенно
Из-под полы. И резво, словно мышь,
Что вдруг, дневную нарушая тишь,
По хате пробежит и в норку снова, —
Так девочка мелькнет — то у слепого
Окошка, то у двери, у печи…
«Ну, угадай, Маринка, калачи
Или другое в узелочке этом?»
Его лицо морщинками согрето,
Как будто сетью солнечных лучей
В осенней синеве…
И сыновей
Сумел своих он вырастить когда-то,
Да где они?..
Пирожное, цукаты,
Украденные с панского стола, —
Украденные! — лакомка брала
Ручонкой и проворно разгрызала…
Ах, для того ль росла и вырастала
У ней коса, пушиста и густа,
Чтоб мышка для пузатого кота
Добычей стала? Нет, не знать пощады!..
Наум молчит. Еще молчать нам надо:
Но он не за горами, грозный час!
Наивный люд в Шампани светлой пас
Наивные стада. Дрожали росы,
Пел колокольчик. Что же стоголосый
Стон от веселой восходил земли?
Зачем они — дофины, короли
И рыцари под шлемом, в латах тесных —
Не шли искать на землях неизвестных
Жен и добычу? Что ж, озлоблены,
Копытами грабительской войны
Они здесь виноградники топтали
И подданным несчастным не давали
В убожестве поля свои пахать?
Зачем же Каина легла печать
На Франции спокойный лик?
Пожары
Сметали села. Словно голос кары,
Звучали трубы грозные в боях,
А там, средь трав, средь свежих трав, в цветах,
Казалось, созданных лишь для влюбленных,
Добычу сладостную — дев плененных —
Терзал солдат бесстыдный произвол,
И цвет, что для любимого расцвел,
Рука насильника порой срывала.
Напрасно горькая тоска звучала,
Летя стократным эхом в синь небес,
Напрасно весь народ молил чудес
И возвещающего мир виденья, —
Никто не знал: придет ли избавленье?
Но девушка с пастушеским жезлом
Для родины отцовский бросит дом:
Нет, не пасти ей коз по косогорам!
На вороном коне, блистая взором,
В одежде белой выедет она…
И перед нею склонится война,
И свой ковер победа ей расстелет.
А ты, моя пастушка, неужели
Тебе, Марина, больше нет пути
И из родных лугов должна идти
Ты в роскошь золоченого покоя?
Не для борьбы, не для восторгов боя
Пастушью долю бросишь ты свою!
Хотя бы в сладком изнемочь бою!
Хотя б сгореть тебе, как та сгорела!
Нет мед хмельной нетронутого тела
Здесь жадно выпьют дряхлые уста,
И песенка умолкнет, так проста,
Что в свежей утренней росе родилась…
Марина! Сердце! Ты не утопилась?
Знай — уж растет и шлет тебе привет
Не дева Орлеанская, о нет!
Та, что ее прекраснее. Та дева
Народом зачата в годину гнева,
Средь молний, грома, плещущих зыбей…
Она растет и уж не королей
И не дофинов от беды спасает —
Невольников на вольный пир скликает!
Эй, бедняки из сел и городов!
Уж блещет день, и плещет стяг, багров,
И он несет, подобную пожару,
Месть угнетателям и сытым кару,
И радость нам, свободным на века!
И потекут народы, как река —
Одна река в родное всем нам море,—
И стон ваш, ваши муки, ваше горе,
И слезы, что веками сердце жгут,
По всей земле как розы расцветут.
Один Марко́ лишь пану угождает.
Чуть только пан капризный пожелает
(Подагра, старость — всё его гнетет)
Поехать прокатиться — запряжет
В рыдван любимых скакунов-арабов,
И — но, любимые!
Марка́ Небабы
Никто б не мог на свете превзойти!
Шумят леса, стучат мосты в пути,
Змеею извиваются дороги,
И солнце лошадям ложится в ноги,
А он сидит, красивый, молодой,
Тугих вожжей уверенной игрой
Он пана-конелюба утешает.
«Тот кучер — кто коней натуру знает!» —
Пан Пшемысловский говорить любил.
А в лошадях на волю рвется пыл:
Летят как вихрь, послушные, как дети, —
Ведь им Марко понятней всех на свете,
Хоть большей частью он привык молчать.
Быть кучером — не песенки писать!
Лишь для того, чтоб разойтись с шаблоном,
Его я не зову Автомедоном[108].
А дед Марка — тот виды сам видал,
Когда народ, как буря, бушевал,
Собравшись освящать ножи в дубраве,
Когда Зализняку в великой славе
Десницу подал Гонта. Средь бойцов,
Кого пророк пел пламенем стихов,
Детьми и сыновьями называя
И славою нетленною венчая,—
Кондрат Небаба самым первым был.
Себе Марко в наследство получил
Движенья гордые, и взор, что светел,
И смелость — самый лучший дар на свете.
Уж не одна, грустя наедине, —
Лишь едет он иль бродит в стороне, —
Посмотрит, покраснеет, улыбнется,
Да так, что сердце пламенем займется.
Эх, друг Марко! От девичьих бровей
Добра не жди!
Раз возле тополей
Марину встретил он. Она шла в поле
Копать картофель…
Сердце! В сладкой боли
Что вспомнило ты о беде былой?
И почему весеннею травой
На стоптанной дороге у березы
Растут забытые мечты и слезы
На месте том, где всё уже прошло?
Что говорить!.. Раз наш Марко в село
Приехал с паном. Глянула Марина,
Он поглядел — и в этот миг единый
Для них обоих сотни лет прошли…
Поехал, оглянулся — и в пыли
Исчез. А солнце, грея по-иному,
В сверканье шло по небу голубому.
Тибурций как-то сравнивал гарем
У пана Людвига (пора нам всем
О многом говорить уже открыто)
С букетом пышным: роза Феокрита,
Вербена, лилия, фиалка — там
Среди цветов. И пан Тибурций сам
Сорвать цветочек согласился б тоже,
Хоть постарел, с голодной мышью схожий
Истлевшим, дряхлым кожушком своим,
Который чуть ли не родился с ним
И пригнан, как его вторая кожа…
Но нет! На пана вовсе не похоже,
Чтоб поступался собственным добром.
И так уж панычи юлят кругом,
Стремясь хоть каплей меда поживиться, —
Напрасно! Ничего им не добиться!
Вот и теперь (мечтал старик поэт,
Облизываясь) свеженький в букет
Попал цветок — и милый и невинный!
А что цветочек тот зовут Мариной,
Узнал он — и разок ей подмигнул…
Ишь старикан! На что он посягнул!
И пан Тибурций, завистью сгорая,
Стал молчалив, гостей не замечая,
Не слыша, что толкуют сгоряча,
Поглядывая лишь из-за плеча
Туда, куда настойчиво и странно
Пытливый взор Густава и Марьяна
Не раз уж с любопытством забегал…
«Ай, Людвиг! Вот конфеточку достал!»
А что ж Марко? Не торопись, читатель!
Я обо всем сказать успею кстати
И каждого дорогой наделю;
А так как более всего люблю
Я строй эпический, широкий, вольный,
То взор внимательный стремлю невольно
Туда, где гулко щелкают бичи.
Где бьются об заклады панычи,
Где Замитальского трясется пузо…
Благослови ж меня, родная муза!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ