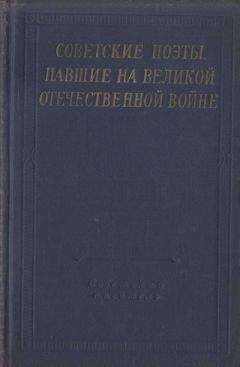Евгений Абросимов - Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне
Так что они, «молодые поэты нового течения» (определение Кульчицкого). были беспощадны и резки по отношению к современному им эпигонству и вторичности («много пунктов разногласий с теперешними серыми стихами в журналах» — замечает Кульчицкий в тридцать девятом году), но воспринимали русскую и советскую большую поэзию как свою духовную родину. Для поколения был характерен не разрушительный комплекс нигилистов, а пафос наследников.
Но наиболее важной для них была все-таки традиция «громкой» лирики[22]. Главным вектором оставался Маяковский. Затем – романтическая когорта двадцатых годов: Багрицкий, Тихонов, в меньшей степени Сельвинский, Асеев, Светлов. И другие поэты прочитывались Коганом, Кульчицким, Майоровым под романтическим углом зрения.
Картина мира, которую они начинают выстраивать (не забудем, что в середине тридцатых им всего-навсего от четырнадцати до восемнадцати) отличается исходной простотой и ясностью.
Произошла Великая Революция, повернувшая, подтолкнувшая тысячелетнее движение «клячи-истории». В гражданской войне поколение отцов защитило ее идеалы и затем начало строительство нового, совершенно нового общества. Они на гражданскую не успели. И их задача, их миссия, если они хотят быть достойными отцов, — защитить, утвердить эти идеалы собственной жизнью и словом, сделать их ориентиром для всего «прогрессивного человечества». А защищать их необходимо, потому что на пороге новые испытания, которые уготованы уже им, их поколению.
Тень грядущей войны сгущается над Европой с начала тридцатых. Поколение «не успевших» чувствует сейсмические толчки социальной почвы.
Ведь войну теперь начинают не трубы — сирена.
И только потом – дипломат.
Уже опять к границам сизым
составы тайные идут,
и коммунизм опять так близок –
как в девятнадцатом году.
(М. Кульчицкий. «Самое такое», 1940-1941)
Эти предчувствия и определяют их версию бытия, окрашивают собой все, о чем бы они не писали.
Когда в шестидесятые годы начали появляться их ранее неизвестные стихи, поражало прежде всего это – спокойствие, трезвое знание своей судьбы и судьбы поколения, всего три процента которого вернулись с войны.
Мы, лобастые мальчики невиданной революции.
В десять лет мечтатели,
В четырнадцать – поэты и урки,
В двадцать пять – внесенные в смертные реляции.
(П. Коган. «Письмо», 1940)
Пусть помнят те, которых мы не знаем:
Нам страх и подлость были не к лицу.
Мы пили жизнь до дна и умирали
За эту жизнь, не кланяясь свинцу.
(Н. Майоров. «Пусть помнят те, которых мы не знаем…», 1941)
В незаконченной поэме Кульчицкого «Бессмертие» мироощущение поколения представляется, пожалуй, наиболее широко и развернуто, включает основные поэтические элементы и мотивы.
Далекий друг! Года и версты,
И стены книг библиотек
Нас разделяют. Шашкой Щорса
Врубиться в твой далекий век
Хочу. Чтоб, раскроивши череп
Врагу последнему и через
Него перешагнув, рубя,
Стать первым другом для тебя.
На двадцать лет я младше века,
Но он увидит смерть мою,
Захода горестные веки
Смежив. И я о нем пою.
И для тебя. Свищу пред боем,
Ракет сигнальных видя свет,
Военный в пиджаке поэт,
Что мучим мог быть — лишь покоем…
Военный год стучится в двери
Моей страны. Он входит в дверь.
Какие беды и потери
Несет в зубах косматый зверь?
Какие люди возметнутся
Из поражений и побед?
Второй любовью Революции
Какой подымется поэт?..
Эти строки удивительно «свинчены»[23], каждая деталь нагружена смыслом и работает в составе целого. Шашка Щорса – память о гражданской. Сигнальная ракета – знак войны грядущей. И литературный пласт, сигнальные огоньки традиции: напоминание о Маяковском, который был «первой любовью революции», греза о преемнике, перефразирование Блока и Багрицкого (упоминание о покое и соловье в последних строчках). И — общий пафос: героическое утверждение идеи ценой собственной гибели. И апелляция к потомкам грядущего века, которым поэт мечтает быть другом и путеводной звездой (тоже «Маяковский» ход: «Мой стих трудом громад лет прорвет…»).
Прошлое, настоящее и будущее органично сходятся в этом фрагменте. «Бессмертие» — стихи о высоком смысле истории, перед которым отступает, смягчается — но не отменяется, как в поэзии агитационной — трагедия гибели индивида.
Близкая идея — в основе замечательной «Ракеты» (1939) П. Когана. Эпиграф — знаменитые строки Ломоносова из «Вечернего размышления о божием величестве при случае великого северного сияния» — настраивает на натурфилософский лад. Но мощная, пластичная картина старта космического корабля, которой не мешает чуть старомодный «междупланетный вагоновожатый» (кажется, что и сегодня никто не написал лучше о полете к звездам), сменяется вдруг историческим «кадром»:
Так вот она – мера людской тревоги,
И одиночества. И тоски!
Сквозь вечность кинутые дороги,
Сквозь время брошенные мостки.
Во имя юности нашей суровой,
Во имя планеты, которую мы
У моря отбили, отбили у крови,
Отбили у тупости и зимы.
Во имя войны сорок пятого года.
Во имя чекистской породы.
Во имя принявших твердь и воду.
Смерть. Холод. Бессонницу и бои.
Дорога в космос для Когана тоже начинается с людей, которые отбили планету у «мора и крови», но ценой собственной жизни, ценой «войны сорок пятого года», холода бессонницы, боев[24].
Сохранилось объяснение самого П. Когана при обсуждении «Ракеты» на семинаре Сельвинского. «Я не писал космических стихов. Я хотел сказать, что вся история человечества развивалась для того, чтобы пошла ракета в космос, и что человечество занималось делом, необходимым для потомков. Моя тема — коммунизм. Человек вступает в прямую борьбу с природой. Первый полет совершается во имя людей»[25].
Просветленный пафос их стихов, даже самых трагических, объясняется глубоким ощущением целесообразности бытия и своего законного неотменимого места в нем. «Всеразрешающий мотив их лирики — чувство долга <…> Долг — это нечто настолько естественное для них, что они и слова-то “долг” почти не употребляют, для них полная включенность в структуру мира, в дело мира — состояние до такой степени само собой разумеющееся, что вопрос тут стоит не о факте долга, а лишь о предельности самоотдачи»[26].
Основу же поэтики школы, считает Лев Аннинский, составил конфликт «реалий и символов»[27]. Но «реалия» в определенном повороте — и есть «символ» (когановская ракета, шашка Щорса у Кульчицкого). Скажем чуть по-иному: основными строительными элементами их мира, в известной степени его полюсами, были предмет-деталь и формула – афоризм, прямое высказывание о жизни.
Идея долга, предельной самоотдачи не делает их стихи анемичными, высушенными, как у тех, кто призывал держать лирический порох сухим и рассматривал стихотворный размер как простой инструмент для иллюстрации очередного партийного постановления. Напротив, их строки часто романтически избыточны (недаром они числили Багрицкого одним из своих предтеч). Они со страстью вгрызаются в плоть «прекрасного и яростного» мира, влюблены в его краски, запахи, голоса. Поэтому им нужен разворот пространства, поэтому в их стихах часто гремят грома, на берег рушится вода, несется бурный поток жизни.
Не тройки русской поэзии века девятнадцатого — скорый поезд с лязгом и шумом проносится в стихах многих. Правда, тексты Бориса Богаткова, Иосифа Ливертовского еще спокойны, описательны. Но Майоров. Коган, Смоленский, не сговариваясь, находят ритм и интонацию, точно совпадающую с предметом изображения.
Ночной экспресс бессонным оком
Проглянет хмуро и помчит,
Хлестнув струей горящих окон
По черной спутанной ночи.
И задохнется, и погонит,
Закинув голову, сопя,
Швыряя вверх и вниз вагоны,
За стыком — стыки, и опять
С досады взвоет и без счета
Листает полустанки, стык
За стыком, стык за стыком, к черту
Послав постылые посты…
(Б. Смоленский «Ночной экспресс», 1939)
В таком задыхающемся ритме, где образы постоянно набегают друг на друга, теснятся, чтобы завершиться финальным афоризмом, написаны «Гроза» Когана (вслед за ней, кстати, можно выстроив еще целый ряд «грозовых» стихотворений), «Что значит любить» Майорова.