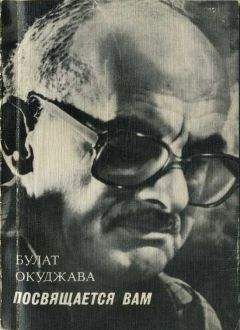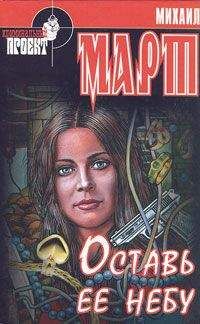Окуджава Шалвович - Стихотворения
Фрески
I. Охотник
Спасибо тебе, стрела,
спасибо, сестра,
что ты так кругла и остра,
что оленю в горячий бок
входишь, как Бог!
Спасибо тебе за твое уменье,
за чуткий сон в моем колчане,
за оперенье,
за тихое пенье…
Дай тебе бог воротиться ко мне!
Чтоб мясу быть жирным на целую треть,
чтоб кровь была густой и липкой,
олень не должен предчувствовать смерть…
Он должен
умереть
с улыбкой.
Когда окончится день,
я поклонюсь всем богам…
Спасибо тебе, Олень,
твоим ветвистым рогам,
мясу сладкому твоему,
побуревшему в огне и в дыму…
О Олень, не дрогнет моя рука,
твой дух торопится ко мне под крышу…
Спасибо, что ты не знаешь моего языка
и твоих проклятий я не расслышу!
О, спасибо тебе, расстоянье, что я
не увидел оленьих глаз, когда он угас!..
II. Гончар
Красной глины беру прекрасный ломоть
и давить начинаю его, и ломать,
плоть его мять, и месить, и молоть…
И когда остановится гончарный круг,
на красной чашке качнется вдруг
желтый бык — отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых…
Царь, а царь, это рыбы раба твоего,
бык раба твоего… Больше нет у него ничего.
Черный нищий, поющий во имя его,
от обид обалдевшего раба твоего.
Царь, а царь, хочешь, будем вдвоем рисковать:
ты башкой рисковать, я тебя рисовать?
Вместе будем с тобою озоровать:
бога — побоку, бабу — под бок, на кровать?!
Царь, а царь, когда ты устанешь из золота есть,
вели себе чашек моих принесть,
где желтый бык — отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых…
III. Раб
Один шажок,
и другой шажок,
а солнышко село…
О господин,
вот тебе стожок
и другой стожок
доброго сена!
И все стога
(ты у нас один)
и колода меда…
Пируй, господин,
до нового года!
Я амбар — тебе,
а пожар — себе…
Я рвань,
я дрянь,
меня жалеть опасно.
А ты живи праздно:
сам ешь, не давай никому…
Пусть тебе — прекрасно,
госпоже — прекрасно,
холуям — прекрасно,
а плохо пусть —
топору твоему!
Письмо Антокольскому
Здравствуйте, Павел Григорьевич! Всем штормам
вопреки,
пока конфликты улаживаются и рушатся материки,
крепкое наше суденышко летит по волнам стрелой,
и его добротное тело пахнет свежей смолой.
Работа наша матросская призывает бодрствовать нас,
хоть Вы меня и постарше, а я помоложе Вас
(а может быть, Вы моложе, а я намного старей)…
Ну что нам все эти глупости? Главное —
плыть поскорей.
Киплинг, как леший, в морскую дудку насвистывает
без конца,
Блок над картой морей просиживает, не поднимая лица,
Пушкин долги подсчитывает, и, от вечной петли спасен,
в море вглядывается с мачты вор Франсуа Вийон!
Быть может, завтра меня матросы под бульканье якорей
высадят на одинокий остров с мешком гнилых сухарей,
и рулевой равнодушно встанет за штурвальное колесо,
и кто-то выругается сквозь зубы на прощание
мне в лицо.
Быть может, всё это так и будет. Я точно знать не могу.
Но лучше пусть это будет в море, чем на берегу.
И лучше пусть меня судят матросы от берегов вдали,
чем презирающие море обитатели твердой земли…
До свидания, Павел Григорьевич! Нам сдаваться
нельзя.
Все враги после нашей смерти запишутся к нам в друзья.
Но перед бурей всегда надежней в будущее глядеть…
Самые чистые рубахи велит капитан надеть!
Эта комната
К. Г. Паустовскому
Люблю я эту комнату,
где розовеет вереск
в зеленом кувшине.
Люблю я эту комнату,
где проживает ересь
с богами наравне.
Где в этом, только в этом
находят смысл
и ветром
смывают гарь и хлам,
где остро пахнет веком
четырнадцатым
с веком
двадцатым пополам.
Люблю я эту комнату
без драм и без расчета…
И так за годом год
люблю я эту комнату,
что, значит, в этом что-то,
наверно, есть, но что-то —
и в том, чему черед.
Где дни, как карты, смешивая —
грядущий и начальный,
что жив и что угас, —
я вижу, как насмешливо,
а может быть, печально
глядит она на нас.
Люблю я: эту комнату,
где даже давний берег
так близок — не забыть…
Где нужно мало денег,
чтобы счастливым быть.
«В чаду кварталов городских…»
В чаду кварталов городских,
среди несметных толп людских
на полдороге к раю
звучит какая-то струна,
но чья она, о чем она,
кто музыкант — не знаю.
Кричит какой-то соловей
отличных городских кровей,
как мальчик, откровенно:
«Какое счастье — смерти нет!
Есть только тьма и только свет —
всегда попеременно».
Столетья строгого дитя,
он понимает не шутя,
в значении высоком:
вот это — дверь, а там — порог,
за ним — толпа, над ней — пророк
и слово — за пророком.
Как прост меж тьмой и светом спор!
И счастлив я, что с давних пор
всё это принимаю.
Хотя куда ты не взгляни,
кругом пророчества одни,
а кто пророк — не знаю.
Осень в Царском Селе
Какая царская нынче осень в Царском Селе!
Какие красные листья тянутся к черной земле,
какое синее небо и золотая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова.
Но вот опускается вечер,
и слышится ветер с полей,
и филин рыдает, как Вертер,
над серенькой мышкой своей.
Уже он не первую губит,
не первые вопли слышны.
Он плоть их невинную любит,
а души ему не нужны.
И всё же какая царская осень в Царском Селе!
Как прижимаются листья лбами к прохладной земле,
какое белое небо и голубая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова!
* * *
Оле
1. «Вся земля, вся планета — сплошное „туда“…»
Вся земля, вся планета — сплошное «туда».
Как струна, дорога звонка и туга.
Все, куда бы ни ехали, только — туда,
и никто не сюда. Все — туда и туда.
Остаюсь я один. Вот так. Остаюсь.
Но смеюсь (и признаться боюсь, что боюсь).
Сам себя осуждаю, корю. И курю.
Вдруг какая-то женщина (сердце горит)…
— Вы куда?! — удивленно я ей говорю.
— Я сюда… — так влюбленно она говорит.
«Сумасшедшая! — думаю. — Вот ерунда…
Как же можно „сюда“, когда нужно — „туда“?!»
2. «Строгая женщина в строгих очках…»
Строгая женщина в строгих очках
мне рассказывает о сверчках,
о том, как они свои скрипки
на протянутых носят руках,
о том, как они понемногу,
едва за лесами забрезжит зима,
берут свои скрипки с собою в дорогу
и являются в наши дома.
Мы берем их пальто, приглашаем к столу
и признательные расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу,
извлекают свои допотопные скрипки,
расправляют помятые сюртучки,
поднимают над головами смычки,
распрямляют свои вдохновенные усики…
Что за дом, если в нем не пригреты сверчки
и не слышно их музыки!..
Строгая женщина щурится из-под очков,
по столу громоздит угощенье…
Вот и я приглашаю заезжих сверчков
за приличное вознагражденье.
Я помятые им вручаю рубли,
их рассаживаю по чину и званию,
и играют они вечный вальс по названию:
«Может быть, наконец, повезет мне в любви…»
3. «Я люблю эту женщину. Очень люблю…»