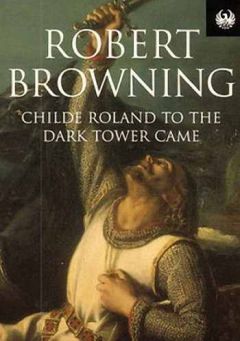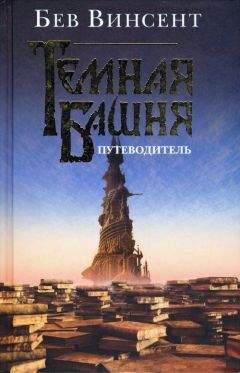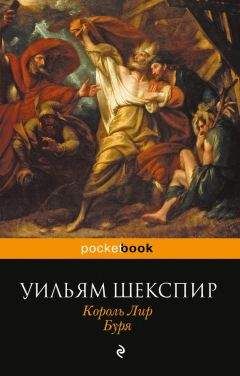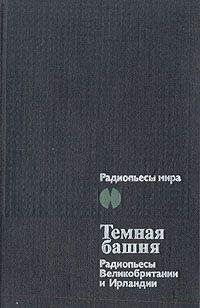Алексей Толстой - Том 1. Стихотворения
Другая сатира Толстого, «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», знаменита злыми характеристиками русских монархов. Достаточно перечитать блестящие строки о Екатерине II, чтобы убедиться, что это не одно лишь балагурство. Острый взгляд поэта сквозь поверхность явлений умел проникать в их сущность.
Основной тон сатиры, шутливый и нарочито легкомысленный, пародирует ложный патриотический пафос и лакировку прошлого в официальной исторической науке того времени. Здесь Толстой соприкасается с Щедриным, с его «Историей одного города». Толстой близок к Щедрину и в другом, не менее существенном отношении. Как и «История одного города», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» отнюдь не является сатирой на русскую историю; такое обвинение могло исходить лишь из тех кругов, которые стремились затушевать подлинный смысл произведения. Было бы легкомысленно отождествлять политический смысл сатиры Щедрина и Толстого, но совершенно ясно, что и Толстой обращался лишь к тем историческим явлениям, которые продолжали свое существование в современной ему русской жизни, и мог бы вместе с Щедриным сказать: «Если б господство упомянутых выше явления кончилось… то я положительно освободил бы себя от труда полемизировать с миром уже отжившим» (письмо в редакцию «Вестника Европы»). И действительно, вся сатира Толстого повернута к современности. Доведя изложение до восстания декабристов и царствования Николая I, Толстой недвусмысленно заявляет: «…о том, что близко, // Мы лучше умолчим». Он кончает «Историю государства Российского» ироническими словами о «зело изрядном муже» Тимашеве. А. Е. Тимашев — в прошлом управляющий Третьим отделением, только что назначенный министром внутренних дел, — осуществил якобы то, что не было достигнуто за десять веков русской истории, то есть водворил подлинный порядок. Нечего и говорить, как язвительно звучали эти слова в обстановке все более усиливавшейся реакции.
Главный прием, при помощи которого Толстой осуществляет свой замысел, состоит в том, что о князьях и царях он говорит, употребляя чисто бытовые характеристики вроде «варяги средних лет» и описывая исторические события нарочито обыденными, вульгарными выражениями: «послал татарам шиш» и т. п. Толстой очень любил этот способ достижения комического эффекта при помощи парадоксального несоответствия темы, обстановки, лица со словами и самым тоном речи. Бытовой тон своей сатиры Толстой еще более подчеркивает, называя его в конце «Истории» летописным: «Я грешен, летописный, // Я позабыл свой слог».
В других сатирах Толстого высмеиваются мракобесы, цензура, национальная нетерпимость, казенный оптимизм. «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме», хотя в нем и имеется несколько грубых строф о нигилистах, в целом направлено против обскурантизма. В связи со слухами о запрещении одного из произведений Дарвина Толстой высмеивает Лонгинова, возглавлявшего цензурное ведомство, иронически рекомендует ему, если уж он стоит на страже церковного учения о мироздании и происхождении человека, запретить заодно и Галилея. Своеобразным гимном человеческому разуму, не боящемуся никаких препон, звучат заключительные строки стихотворения:
С Ломоносовым наука,
Положив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука
Мимо всех твоих рогаток, и т. д.
Стихотворения «Порой веселой мая…» и «Поток-богатырь», направленные против демократического лагеря, вызвали естественное недовольство передовой печати. Так, в одной из глав «Дневника провинциала в Петербурге» Салтыкова-Щедрина описано, как «Порой веселой мая…» с удовольствием читают на рауте у «председателя общества благих начинаний отставного генерала Проходимцева».
Это стихотворение построено на парадоксальном сопоставлении фольклора со «злобой дня»; комизм заключается в том, что два лада, он — в «мурмолке червленой» и корзне, шитом каменьями, она в «венце наборном» и поняве, беседуют о нигилистах, о способах борьбы с ними, упоминают мимоходом о земстве. То же в «Потоке-богатыре», в последних строфах которого речь идет о суде присяжных, атеизме, «безначальи народа», прогрессе. Это, по выражению самого Толстого, «выпадение из былинного тона» (журнальная редакция «Потока-богатыря») близко поэзии Гейне. В рассказ Тангейзера Венере (в балладе «Тангейзер») Гейне вставил злые остроты о швабской школе, Тике, Эккермане. С точки зрения приемов комического сатиры Толстого близки к «Тангейзеру».
Особо следует отметить стихотворения, в которых хорошо передан народный юмор. В одном из них — «У приказных ворот собирался народ…» — ярко выражены презрение и ненависть народа к обдирающим его приказным. То же народное стремление — «приказных побоку да к черту!»; тоска народных масс по лучшей доле, их мечта о том, чтобы «всегда чарка доходила до рту» и чтобы «голодный всякий день обедал», пронизывают стихотворение «Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!..».
Говоря о сатире и юморе Толстого, нельзя хотя бы коротко не остановиться на Козьме Пруткове. Самостоятельно и в сотрудничестве с Жемчужниковыми Толстой написал несколько замечательных пародий, развенчивающих эстетизм и тягу к внешней экзотике. Антологические мотивы и эстетский поэтический стиль Щербины; увлечение романтической экзотикой Испании; плоские подражания Гейне, искажающие сущность его творчества, — вот объекты пародий Толстого. В стихотворении «К моему портрету» язвительно высмеян общий облик самовлюбленного поэта, оторванного от жизни, клянущего толпу и живущего в призрачном мире. Другие прутковские вещи Толстого имеют в виду не литературу, а явления современной ему действительности. Так, «Звезда и Брюхо» — издевка над чинопочитанием и погоней за орденами.
Здесь нет возможности охарактеризовать все приемы комического у Толстого: метод доведения до абсурда; вывод, совершенно несоответствующий посылкам; использование в комическом плане славянизмов, иностранных слов, имен, комическую функцию рифмы и т. д. Толстой как юморист оказал существенное влияние на позднейшую поэзию; такой мастер шутки, как Вл. Соловьев, совершенно непонятен вне традиций Толстого и Козьмы Пруткова. С другой стороны, многому мог научиться у Толстого и Маяковский, прекрасно знавший, по свидетельству современников, его поэзию.
7Тяга к драматургии обнаружилась у Толстого с самого начала его литературной деятельности. К концу 30-х годов относится ряд остроумных юмористических набросков, в известной степени предвосхищающих драматическое творчество еще не существовавшего тогда Козьмы Пруткова.
В 40-х годах какие-то первоначальные наброски «Князя Серебряного» Толстой делал, по-видимому, в драматической форме. В 1850 году написана пародийная пьеса «Фантазия».
В 1862 году появилась «драматическая поэма» «Дон Жуан». Обратившись к много раз использованному в мировой литературе образу, Толстой стремился дать ему свое, оригинальное толкование. Дон Жуан не был в его глазах тем безбожником и развратником, который впервые изображен в пьесе Тирсо де Молина, а вслед за нею и в целом ряде других произведений. Был далек от замысла Толстого и гораздо более сложный, но насквозь «земной» образ Дон Жуана в «Каменном госте» Пушкина, хотя в отдельных местах пьесы совпадения с Пушкиным совершенно очевидны. Не случайно она посвящена памяти Моцарта и Гофмана. По словам Толстого, Гофман, рассказ которого о Дон Жуане написан в виде впечатлений от музыки Моцарта, первый увидел в Дон Жуане «искателя идеала, а не простого гуляку» (письмо к Маркевичу от 20 марта 1860 г.). Романтический идеал любви мерещится Дон Жуану в каждом мимолетном любовном приключении, но он неизменно обманывается в своих ожиданиях, и этим, а не порочной натурой, не пресыщением, объясняется, по Толстому, его разочарование и озлобление Толстой сблизил Дон Жуана с Фаустом в его романтической интерпретации, превратив его в своеобразного искателя истины и наделив его вместе с тем романтическим томлением по чему-то неясному и недостижимому.
В 60-е годы была создана драматическая трилогия. После ее завершения Толстой стал искать сюжет для нового драматического произведения, и у него возник замысел чисто психологической драмы — «представить человека, который из-за какой-нибудь причины берет на себя кажущуюся подлость» (письмо к жене от 10 июля 1870 г.). В процессе обдумывания замысел принял более конкретные очертания: причиной этой оказывается спасение города, и тогда уже, как внешняя рама, как фон, появился Новгород XIII века. В этой драме, получившей название «Посадник», перед нами Новгород в момент борьбы с суздальцами, которые вот-вот ворвутся в него. Новгородский посадник, желая противостоять стремлению некоторых влиятельных лиц сдать город, принимает на себя мнимую вину; он делает это, чтобы спасти нового воеводу, устранение которого было бы равносильно падению города. Таким образом, ядро замысла не связано с историей; однако исторический колорит (нравы, обычаи, отдельные образы) и народные сцены, особенно сцена веча, переданы в пьесе ярко и выразительно. Толстой был очень увлечен драмой, но закончить ее ему не удалось.