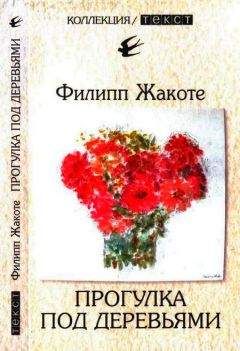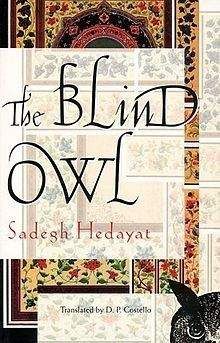Наум Коржавин - На скосе века
Якобинец
Когда водворился опять Бурбон
После конца Ста дней,
И стал император Наполеон
Тоскою Франции всей,
И юноша каждый, таясь во мгле,
Всё лучшее с ним сроднил,
Один якобинец в швейцарском селе
Учителем скромным жил.
Он очень учён был. И, как дитя,
Наивен был, светел, чист.
Крестьяне любили его — хотя
И знали, что он атеист.
И дети любили его. Хоть он
В школе всегда был строг.
Но целый мир был в нём заключён,
И всё объяснить он мог.
— Учитесь, дети! — он часто так
Начинал, опершись о стол. —
Учитесь, дети, — невежества мрак
Причина премногих зол.
Стремитесь к истине. Счастье — в ней.
И может, когда-нибудь
Окрепший разум заблудших людей
На ясный выведет путь…
Любил он гулять в предвечерний час,
В час конца полевых работ,
Когда веет прохладой, и солнце, садясь,
Красный свет свой на горы льёт.
И закат был грустен, и горы грустны,
И грустью был аромат,
И на всём был отблеск родной страны,
Что с той стороны, где закат.
Читал по ночам. И вставал чуть свет
Для тетрадей учеников…
Он здесь уже целых семнадцать лет
Жил вдали от друзей и врагов.
А в эти годы событья шли,
Отражаясь в ушах молвы…
И войска французов победно шли
До высоких ворот Москвы…
А потом метели чужой земли
Заметали могилы-рвы,
И войска французов назад брели
От холодных ворот Москвы.
А он так же спокойно смотрел вдаль:
Виноградники на холмах.
И неколебимо светилась печаль
В умных добрых его глазах…
…И лишь раз за все годы ожил старик.
Вдруг влетел, как восточный буран,
Сын погибшего друга, его ученик,
Догонявший свой полк капитан.
Он был полон победами, блеском карьер,
Славой Франции. Ветром. Войной.
Мыслью, силою, сведённой в крик: «Vive l’Empereur!»
И письмом варшавянки одной.
И хотелось — он сам не знал почему,
Ведь вся жизнь так была ярка —
Но навязчиво, страстно хотелось ему
Убедить и склонить старика.
А старик его слушал, но не стерпел.
И сказал: — Ты умён и смел.
Но всё-таки это не я устарел,
А ты юности не имел.
И меня не прельщает гром ваших побед,
Не прельщает совсем. Никак.
Революции, мальчик мой, больше нет.
Остальное — грызня собак.
И зачем говорить пустые слова —
Это просто банальность дней.
Одна революция была нова,
А всё, что было после — старей.
А этот человек, твой идеал,
Чьи трубы в тебе трубят —
Он революцию обобрал
И в неё нарядил себя.
И какой у тебя в голове туман —
Как ты мог до того дойти,
Чтобы слово «свобода» и слово «тиран»
В голове своей совместить.
Нет, не быть мне фанатиком, нет, юнец,
Блеск невежества — ерунда!
Нет, я верен разуму… Как твой отец,
Который жизнь за него отдал…
…Капитан молодой, прощаясь, встал,
И обнял, и прижал к груди,
И потом доктринёром его назвал,
И, в коляску сев, загрустил.
И кони его понесли туда,
Где полячка встречалась с ним.
И где закатилась его звезда
Под Смоленском или Бородиным…
…Из глаз старика скатилась слеза,
Но смахнул её властно он…
…Шли войска вперёд, шли войска назад,
Водворился опять Бурбон.
Как призрак мёртвого он пришёл,
Стало в жизни ещё темней.
А старик подумал и сказал: — Хорошо!
По крайней мере — ясней.
И когда отгремели в огне Сто дней
И ушли на остров суда,
Он спокойно и ровно учил детей,
И гулял, и читал, как всегда.
Военная электричка
В мелькающей, тающей, нежной траве
Летит электричка дорогой к Москве.
Летит и проносит с собою в столицу
Военного времени разные лица:
Девиц, что куда-то спешат на веселье,
Бухгалтера с толстым потёртым портфелем,
К стеклу придавившего носик ребёнка
И тётку с картошкой в цветистой плетёнке.
Летит и проносит сквозь клёны и ёлки
Невзгоды и взгоды и разные толки
О всяких делах бытовых и военных,
О фронте, любви, о продуктах и ценах.
И пусть я поэт и романтик, — а всё же
Хочу этим ритмом проникнуться тоже,
Со всеми, кто едет, хочу раствориться
В размеренном ритме военной столицы.
Новогодняя элегия
Я провожаю старый год
Незавершённый, как и тот,
Который прожит год тому
И еле видится в дыму.
Всё чаще я теперь готов
Забыть об опыте веков,
Готов, как все, смирив свой дух,
Войти в обычной жизни круг,
Который — пусть он мне смешон —
Вполне и прочно завершён.
Мне даже кажется порой,
Что жизнь обходит стороной
И что, конечно, не найти
Земную соль в моём пути.
Полёт незавершённых лет,
В котором просто смысла нет.
Но вспоминаю, что земна
В незавершённости весна,
И с нею все полутона
Во все земные времена.
И принимая этот год
Со всем, что он мне принесёт,
Я пью хорошее вино,
Что бродит — не завершено.
1937 Год
Вступление в ненаписанную юношескую поэму
Да, не забыт и до сих пор он
В проклятьях множества людей.
Метался ночью «чёрный ворон»,
Врагов хватая и друзей.
Шли обыски, и шли собранья.
Шли сотни вражеских клевет.
Им обеспечено заранее
Участье власти и привет.
За слово несогласья сразу
Кричат: «ШПИОН!», хватают: «СТОЙ!».
А кто бывает не согласен?
Тот, кто болеет, тот, кто свой.
А вот завмагам дела нету,
Каков дальнейшей жизни ход.
У них в карманах партбилеты
Как не единственный расход.
Я стал писать о молодёжи —
Да, о себе и о друзьях, —
Молчите! Знайте! Я надёжен!
Что? правды написать нельзя?
Не я ведь виноват в явленьях,
В которых виноваты вы.
Они начало отступленья
От Белостока до Москвы.
Россия-мать! Не в этом дело,
Кому ты мать, кому — не мать.
Ты как никто всегда умела
Своих поэтов донимать.
Не надо списка преступлений:
И Пушкина на дровнях гроб,
И вены взрезавший Есенин,
И Маяковский с пулей в лоб.
Пусть это даже очень глупо,
Пусть ничего не изменю,
Но я хочу смотреть без лупы
В глаза сегодняшнему дню.
Что ж, можешь ставить на колени.
Что ж, можешь голову снести.
Но честь и славу поколенья
Поэмой должен я спасти!
Стихи о моей звезде
Я всё запомнил. И блаженство супа,
И полумрак окна, и спёртый воздух,
Я в этой кухне воровал когда-то
Мацу из печки… И тащил за хвост
Нелепо упиравшуюся кошку.
Маца была хрустящей и горячей
И жгла меня за пазухой. Я с нею
Бежал во двор, где на футбольном поле
Двенадцать босоногих мальчуганов
Гоняли тряпки, скатанные крепко
И громко величавшиеся: мяч.
И я делился добытым. И вместе
Мы забирались высоко на крышу,
Где с вкусным хрустом на зубах друзья
Выкладывали мне о мире взрослых
Гипотезы, обиды, наблюденья.
А я импровизировал им сказки,
Невесть откуда бравшиеся сказки,
Где за развязкой следует завязка,
За гибелью геройской воскресенье
И никогда не следует конец.
Ребята слушали и не дышали.
И сам я тоже слушал с интересом.
А там, на кухне, бесновалась тётка,
Что эта дружба уличных мальчишек
Невесть куда ребёнка заведёт.
А я и сам был уличным мальчишкой.
В двенадцать лет легко ругался матом,
Швырял камнями, разбивая стёкла.
Хоть это не мешало мне, однако,
Читать о том, как закалялась сталь.
А дни летят быстрее и быстрее,
И всё сильней стучит и громче сердце,
И мы уже мечтаем о походах,
О ромбах на малиновых петлицах
И о девчонке в кепке набекрень.
А время становилось всё практичней,
Во всём не по-мальчишески суровым.
Но я жил в мире бурных революций,
Писал стихи без рифмы и без ритма,
На улицах придумывал восстанья…
Моя звезда уже была моей.
«Анна Каренина»