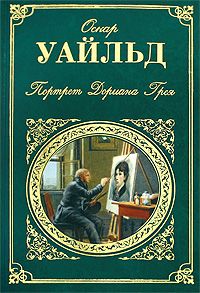Оскар Уайльд - Стихотворения. Портрет Дориана Грея. Тюремная исповедь; Стихотворения. Рассказы
Увидел читатель, который не терпел компромиссов и от искусства требовал ответов на важнейшие запросы жизни; уловил художник, при собственной, видимой «растрепанности», не знавший устали в поисках гармоничного соединения слова, мысли и дела в творческую правду. Именно на переходе от репортажной достоверности, стилистической точности, одним словом, правдоподобия («Выдумка его полна правдоподобия» — устойчивое и основательное мнение о Киплинге), на этом переходе — к большой правде усмотрел Толстой у Киплинга творческий промах.
Теперь, когда итоги давним спорам о Киплинге подведены самой историей, видно: в «растрепанности» сказывалась нестойкость идейных основ, на которых Киплинг пытался воздвигнуть свою «крепость». Пытался, развивая свойственную многим англичанам философию «семейного очага», дома-крепости и притом — с садом.
«Наша Англия — сад», — писал Киплинг в стихах, будто бы вторивших самому Шекспиру. Но у Шекспира возделанный «сад» — наследие трудовых поколений. Киплинг, как мы уже знаем, по-своему не терпел белоручек. «Сад тружеников» воспевал он, включая, однако, в понятие о «труде» и всю «грязную работу» по защите захватнических, имперских интересов. А в итоге, в глубине, как Сэр Антони, понявший, что не обиду от сына, а возмездие за дела рук своих получил он, так и Киплинг, хотя бы временами, испытывал покаянно-просветляющее чувство исторической вины.
Киплинг самому себе предъявил суровый счет. Когда Королевское общество литературы присудило ему золотую медаль, он, отклонявший после получения Нобелевской премии многие литературные, ученые и даже государственные почести, эту медаль принял и по случаю произнес речь. «Все пишут, — в таком духе говорил он, — надеясь на бессмертие, а что остается?» Он вспомнил гигантов, например, Свифта, Властелина Иронии, чьи сарказмы сотрясали устои, а в горниле вечности все им сделанное сжалось, в сущности, до размеров маленькой книжки. «Это все равно, — сказал Киплинг, — как если бы с помощью вулкана зажигать светильник над кроваткой ребенка». Но выводом Киплинга была все же не мысль о тщете даже очень больших усилий. Он говорил о требовательности самой истории, о нагрузке веков, под которую, как под пресс, ложатся книга за книгой, а там, что останется! «Пока пишешь, — говорил Киплинг, — окружающий мир берет у тебя лишь столько правды или удовольствия, сколько ему в данный момент требуется. А со временем остаток приплюсуется к общему результату, и, может быть, получится такой итог, о котором писатель даже не мечтал».
Но вот уже в самое последнее время, у нас на глазах, англичане вновь вспомнили Англию «конца века», ту самую, о которой еще Ричард Олдингтон говорил: «Совсем другая и, однако, на удивление та же, в чем-то неправдоподобная, бесконечно далекая от нас, а во многом — такая близкая, до ужаса близкая, сегодняшняя Англия…» Ныне соотношение далеко — близко еще даже усугубилось. Почти столетняя проверка выявила, что, собственно, к нашим дням приблизилось, что — отдалилось. Стало видно, что не приметы прошлого приближаются, а развилось «современное», уже намечавшееся в «далеком». Поэтому картина прежней эпохи стала активно перестраиваться усилиями историков и критиков. Имена, несравненно уступавшие Уайльду и Киплингу в прижизненной популярности, вышли на первый план. Те, о ком тогда говорили разве что в литераторских кругах, причем преимущественно говорили — не читали, во веком случае, не читала публика, знавшая наизусть Киплинга, те, если судить по мнениям нам современной критики, вышли вдруг на первый план как фигуры более значительные. Но это, понятно, аберрация.
Как ни трудно в самом деле восстановить картину ушедшего времени с основными его приметами, одной ошибки все-таки можно избежать, надо только не путать в прошлом самого прошлого и — намеков на будущее. Это уже к нашему времени намеки выросли в общепонятные и общепризнанные высказывания, это время как бы «дописало», прояснило их для нас. Кроме того, оценки новейшей английской критики отличаются какой-то нарочитой противопоставленностью вкусам читателей. «Возрождая» старых, некогда не вполне понятых или непризнанных писателей, критика превозносит их «серьезность», «сознательно-рассчитанное мастерство», однако одаренности, настоящей творческой энергии нет в этих свойствах. Одаренности, которая в произведениях и Уайльда и Киплинга била через край. Конечно, десятки киплинговских книг под прессом лет сжались до одного-двух томов. Из того, что написано Уайльдом, отстоялась книга, которую даже трудно зачислить в какой-либо жанр, ее так и называют «Ум Уайльда». Но уж это в самом деле выдержало проверку нелегкую и — будет жить дальше.
Д. УРНОВ
ОСКАР УАЙЛЬД[5]
СТИХОТВОРЕНИЯ[6]
VITA NUOVA[7]
[8]
На берегу стоял я в час прилива,
Дождем летели брызги на меня,
И рдели блики гаснущего дня
На западе, и ветер выл тоскливо.
К земле умчались чайки торопливо.
«Увы! — вскричал я. — Жизнь моя темна.
Ни колоска не даст мне, ни зерна
Лежащая в бесплодных корчах нива!»
И был истерзан ветхий невод мой,
Но снова в море из последних сил
Его забросил я в душевной муке.
И тут — о, чудо! — вдруг передо мной
В волнах возникли трепетные руки,
И я все беды прошлого забыл.
IMPRESSION DU MATIN[9]
[10]
Пейзаж был сине-золотой,
Но утром Темза серой стала;
Две баржи с сеном от причала
Отплыли; желтый и густой
Туман с мостов стекал, как с гор,
И вдоль фасадов расползался;
Огромным пузырем казался
Повисший в воздухе собор.
Потом, стряхнув ночную тишь,
Вдруг стало утро шевелиться;
Жизнь пробуждалась; даже птица
Запела на одной из крыш.
А женщина, бледна, тускла,
Медлительными шла шагами
Под газовыми фонарями
И в сердце боль свою несла.
IMPRESSIONS[11]
[12]
1 LES SILHOUETTES[13]Легли на гладь залива тени,
Угрюмый ветер рвет волну
И гонит по небу луну,
Как невесомый лист осенний.
На гальке черною гравюрой —
Баркас; отчаянный матрос,
Вскарабкавшись на самый нос,
Хохочет над стихией хмурой.
А где-то там, где стонет птица
В невероятной вышине,
На фоне неба, в тишине
Жнецов проходит вереница.
LA FUITE DE LA LUNE[14]
Над миром властвует дремота,
Лежит безмолвие вокруг,
Немым покоем скован луг,
Затихли рощи и болота.
Лишь коростель, один в округе,
Тоскливо стонет и кричит,
И над холмом порой звучит
Ответный крик его подруги.
Но вот, бледна, как неживая,
В испуге, что светлеет ночь,
Луна уходит с неба прочь,
Лицо в туманной мгле скрывая.
QUIA MULTUM AMAVI[15]
[16]
Когда священник пылкий, молодой
Из тайны тайн вкушает первый раз
Плоть Бога — узника гармонии святой —
И с хлебом пойло пьет, войдя в экстаз,
Нет, даже он не в силах испытать,
Что было в ночь, когда глаза мои
Метались на тебе, и протоптать
Я пред тобой колени мог свои.
О, если б я чуть меньше был влюблен
И если бы чуть больше был любим
В те дни, под звон веселья, ливня звон, —
Лакей Страданья — я не стал бы им.
Но счастлив, что я так тебя любил,
Хоть голос боли до сих пор жесток.
Подумай, сколько сменится светил,
Чтоб сделать голубым один цветок.
МОЙ ГОЛОС
В наш суетливый, в наш тревожный век
Мы насладились жизнью — я и ты,
А ныне просто жалок наш ковчег,
Наш груз иссяк, и трюмы так пусты.
Вот почему бледнее мертвеца
Я стал так рано, и от слезных рек
Сошла вся краска с юного лица,
И Гибель входит шторой в мой ночлег.
Но для тебя вся жизнь в толпе людской —
Не более, чем прелесть лир, виол,
Иль гул уснувшей музыки морской, —
Ракушечное эхо вечных волн.
TAEDIUM VITAE[17]
Ножами юность заколоть, ходить
В твоей ливрее, худший из веков,
Дать всякой мрази красть из тайников
И в петли женских прядей угодить, —
Да просто за конюшнями ходить
В лакеях у Фортуны! Не таков!
Все это жалче пенных гребешков,
Чертополошин: близко подходить
Не собираюсь к своре дураков,
Что, зло смеясь, пускают гнусный слух,
Меня не зная вовсе. Батраков
Приют — он лучше, чем возврат в тот сброд,
Охрипший в спорах, где мой белый дух
С грехом впервые целовался в рот.
ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ[18]