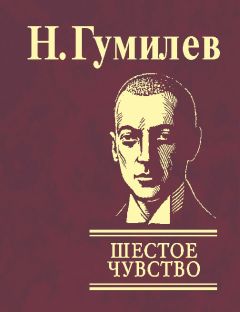Николай Гумилев - Глоток зеленого шартреза
Если мы проследим пройденный Гумилевым творческий путь, мы не найдем на всем его протяжении почти никаких отклонений от раз поставленной цели. Стремление к ней, сначала инстинктивное, с годами делается все более сознательным и волевым. Цель эта – поднять поэзию до уровня религиозного культа, вернуть ей, братающейся в наши дни с беллетристикой и маленьким фельетоном, ту силу, которою Орфей очаровывал даже зверей и камни.
В этом пафос поэзии Гумилева, в этом смысл ее для самого поэта. Читателю, ищущему в стихах только державинского сладкого лимонада или гражданской микстуры (а как близко к 100 % число таких читателей, мы знаем), – эти замыслы казались просто красивой позой. И какой бы литературный успех ни сопровождал Гумилева, в самом этом успехе таилась бы глубокая взаимная рознь – между поэтом, ставящим себе такие задачи, и его пестрой и случайной аудиторией.
Н. Гумилев сознавал это чрезвычайно остро, и вся его критическая, лекционная, студийная работа была целиком направлена на воспитание кадров читателей, способных воспринимать его.
В первых книгах Гумилева: «Пути конквистадоров», «Романтических цветах» и «Жемчугах» основная идея его творчества уже выражена отчетливо и ясно, но образы, пленяющие поэта, слишком театральны, поза слишком красива и обдуманна, чтобы быть естественной. Богатство мира еще ассоциируется им с богатством в его материальном представлении. Пальмы, жирафы, львы, герои древности, сверхчеловеческие доблести и пороки – заполняют собой страницы первых книг Гумилева. Реакцией против этой безудержной экзотики является «Чужое небо», где голос Гумилева становится много сдержанней, человечней и естественней, нисколько не теряя богатства интонаций. «Колчаном» завершается работа, начатая в «Чужом небе». Повязка окончательно падает с глаз поэта – он видит мир таким, как он есть:
Ни шороха полночных далей,
Ни песен, что певала мать,
Мы никогда не понимали
Того, что стоило понять.
В этих строках не только залог полного преодоления эстетизма, но и открытый путь к лирике, до сих пор поэту недоступный. «Костер», «Фарфоровый павильон», «Африканская поэма», «Мик», «Шатер» – уверенные шаги по пути, намеченному «Чужим небом».
По ним мы можем следить за теми или иными уклонами творчества поэта, но его художественное восприятие остается неизменным.
Возвращаясь к «Огненному столпу», которому суждено было стать последним сборником поэта, можно сказать, что это характернейшая, но вряд ли самая сильная из книг Гумилева. Зная все его творчество, мы знаем, что он почти всегда находил удачное разрешение поставленных себе задач. Аналогия с «Чужим небом» здесь вполне уместна. Наступление в недоступные еще поэту области было начато в «Чужом небе», но достижения совершенной победы собраны не в нем, а в более отстоявшихся «Колчане» и «Костре». Так и здесь – целый ряд ритмических, композиционных и эйдолологических завоеваний намечается в «Огненном столпе», но вчерне, наспех, в горячке созидания, и поэтому местное значение многих (составляющих ядро сборника) стихотворений не соответствует их самодовлеющей ценности.
ПОДРАЖАНЬЕ ПЕРСИДСКОМУИз-за слов твоих, как соловьи,
Из-за слов твоих, как жемчуга,
Звери дикие – слова мои,
Шерсть на них, клыки у них, рога.
Я ведь безумным стал, красавица.
Ради щек твоих, ширазских роз,
Краску щек моих утратил я,
Ради золотых твоих волос
Золото мое рассыпал я.
Нагим и голым стал, красавица.
Для того, чтоб посмотреть хоть раз,
Бирюза твой взор или берилл,
Семь ночей не закрывал я глаз,
От дверей твоих не отходил.
С глазами полными крови стал, красавица.
Оттого что дома ты всегда,
Я не выхожу из кабака,
Оттого что честью ты горда,
Тянется к ножу моя рука.
Площадным негодяем стал, красавица.
Если солнце есть и вечен Бог,
То перешагнешь ты мой порог.
Когда я кончу наконец
Игру в cache-cache [16] со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.
И небо, точно бирюза,
И принц, поднявший еле-еле
Миндалевидные глаза
На взлет девических качелей.
С копьем окровавленным шах,
Стремящийся тропой неверной
На киноварных высотах
За улетающею серной.
И ни во сне, ни наяву
Не виданные туберозы,
И сладким вечером в траву
Уже наклоненные лозы.
А на обратной стороне,
Как облака Тибета, чистой,
Носить отрадно будет мне
Значок великого артиста.
Благоухающий старик,
Негоциант или придворный,
Взглянув, меня полюбит вмиг
Любовью острой и упорной.
Его однообразных дней
Звездой я буду путеводной,
Вино, любовниц и друзей
Я заменю поочередно.
И вот когда я утолю
Без упоенья, без страданья
Старинную мечту мою
Будить повсюду обожанье.
Прекрасно в нас влюбленное вино,
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.
Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем.
Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, –
Так век за веком – скоро ли, Господь? –
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Моя любовь к тебе сейчас – слоненок,
Родившийся в Берлине иль Париже
И топающий ватными ступнями
По комнатам хозяина зверинца.
Не предлагай ему французских булок,
Не предлагай ему кочней капустных,
Он может съесть лишь дольку мандарина,
Кусочек сахару или конфету.
Не плачь, о нежная, что в тесной клетке
Он сделается посмеяньем черни,
Чтоб в нос ему пускали дым сигары
Приказчики под хохот мидинеток.
Не думай, милая, что день настанет,
Когда, взбесившись, разорвет он цепи,
И побежит по улицам, и будет,
Как автобус, давить людей вопящих.
Нет, пусть тебе приснится он под утро
В парче и меди, в страусовых перьях,
Как тот, Великолепный, что когда-то
Нес к трепетному Риму Ганнибала.
Шел по улице я незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы, –
Передо мною летел трамвай.
Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.
Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.
И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик, – конечно, тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.
Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет.
Вывеска… кровью налитые буквы
Гласят – зеленная, – знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.
В красной рубашке, с лицом как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!
Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.
Понял теперь я: наша свобода –
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.
И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.
Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.
И все ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.
Эльга, Эльга! – звучало над полями,
Где ломали друг другу крестцы
С голубыми, свирепыми глазами
И жилистыми руками молодцы.
Ольга, Ольга! – вопили древляне
С волосами желтыми, как мед,
Выцарапывая в раскаленной бане
Окровавленными ногтями ход.
И за дальними морями чужими
Не уставала звенеть,
То же звонкое вызванивая имя,
Варяжская сталь в византийскую медь.
Все забыл я, что помнил ране,
Христианские имена,
И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани
Слаще самого старого вина.
Год за годом все неизбежней
Запевают в крови века,
Опьянен я тяжестью прежней
Скандинавского костяка.
Древних ратей воин отсталый,
К этой жизни затая вражду,
Сумасшедших сводов Валгаллы,
Славных битв и пиров я жду.
Вижу череп с брагой хмельною,
Бычьи розовые хребты,
И валькирией надо мною,
Ольга, Ольга, кружишь ты.
Толстый, качался он, как в дурмане,
Зубы блестели из-под хищных усов,
На ярко-красном его доломане
Сплетались узлы золотых шнуров.
Струна… и гортанный вопль… и сразу
Сладостно так заныла кровь моя,
Так убедительно поверил я рассказу
Про иные, родные мне края.
Вещие струны – это жилы бычьи,
Но горькой травой питались быки,
Гортанный голос – жалобы девичьи
Из-под зажимающей рот руки.
Пламя костра, пламя костра, колонны
Красных стволов и оглушитель гик,
Ржавые листья топчет гость влюбленный,
Кружащийся в толпе бенгальский тигр.
Капли крови текут с усов колючих,
Томно ему, он сыт, он опьянел,
Ах, здесь слишком много бубнов гремучих,
Слишком много сладких, пахучих тел.
Мне ли видеть его в дыму сигарном,
Где пробки хлопают, люди кричат,
На мокром столе чубуком янтарным
Злого сердца отстукивающим такт?
Мне, кто помнит его в струге алмазном,
На убегающей к Творцу реке,
Грозою ангелов и сладким соблазном
С кровавой лилией в тонкой руке?
Девушка, что же ты? Ведь гость богатый,
Встань перед ним, как комета в ночи,
Сердце крылатое в груди косматой
Вырви, вырви сердце и растопчи.
Шире, все шире, кругами, кругами
Ходи, ходи и рукой мани,
Так пар вечерний плавает лугами,
Когда за лесом огни и огни.
Вот струны-быки и слева и справа,
Рога их – смерть и мычанье – беда,
У них на пастбище горькие травы,
Колючий волчец, полынь, лебеда.
Хочет встать, не может… кремень зубчатый,
Зубчатый кремень, как гортанный крик,
Под бархатной лапой, грозно подъятой,
В его крылатое сердце проник.
Рухнул грудью, путая аксельбанты,
Уже ни пить, ни смотреть нельзя,
Засуетились официанты,
Пьяного гостя унося.
Что ж, господа, половина шестого?
Счет, Асмодей, нам приготовь!
Девушка, смеясь, с полосы кремневой
Узким язычком слизывает кровь.
Соловьи на кипарисах и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина,
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!
Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера,
Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра.
И хожу и похваляюсь, что узнал я торжество:
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!
Я бродяга и трущобник, непутевый человек,
Все, чему я научился, все забыл теперь навек,
Ради розовой усмешки и напева одного:
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!
Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья,
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!
Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,
На высоких кипарисах замолчали соловьи,
Лишь один запел так громко, тот, не певший ничего:
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!
Если убитому леопарду не опалить немедленно усов, дух его будет преследовать охотника.