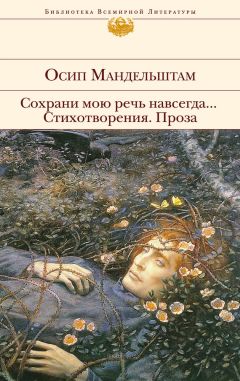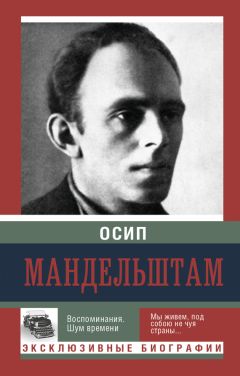Осип Мандельштам - Стихотворения. Проза
Отношение Розанова к русской литературе самое что ни на есть нелитературное. Литература – явление общественное, филология – явление домашнее, кабинетное. Литература – это лекция, улица; филология – университетский семинарий, семья. Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора, а в окно лезут ветви знакомых деревьев университетского сада. Филология – это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеобразная, чисто филологическая словесная нюансировка составляет фон семейной жизни. Вот почему тяготение Розанова к домашности, столь мощно определившее весь уклад его литературной деятельности, я вывожу из филологической природы его души, которая в неутомимом искании орешка щелкала и лущила свои слова и словечки, оставляя нам только шелуху. Немудрено, что Розанов оказался ненужным и бесплодным писателем.
…«Какой ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого – «смерть». Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя уже определение, уже «что-то знаем». Так своеобразно определяет Розанов сущность своего номинализма: вечное «познавательное движение», вечное щелканье орешка, кончающееся ничем, потому что его никак не разгрызть. Да какой же Розанов литературный критик? Он все только щиплет, он случайный читатель, заблудившаяся овца – ни то ни се…
Критик должен уметь проглатывать темы, отыскивая нужное, делая обобщения; Розанов же увязнет с головой в строчке любого русского поэта, как он увяз в строчке Некрасова. «Еду ли ночью по улице темной» – первое, что пришло в голову ночью на извозчике. Розановское примечание – вряд ли сыщется другой такой русский стих во всей русской поэзии. Церковь Розанов полюбил за ту же самую филологию, что и семью; вот что он говорит: «Церковь об умершем произнесла такие удивительные слова, каких мы не умеем произнести об умершем отце, сыне, жене, подруге, то есть она всякого вообще умирающего, умершего человека почувствовала так близко, так «около души», как только мать может почувствовать свое умершее дитя. Как же ей не оставить за это все?..»
Антифилологический дух, с которым боролся Розанов, вырвался из самых глубин истории; это в своем роде такой же неугасаемый огонь, как и огонь филологический.
Есть такие вечные огни на земле, пропитанной нефтью: где-нибудь случайно загорится и горит десятки лет. Нет нейтрализующего состава, погасить абсолютно нечем. Лютер был уже плохой филолог, потому что, вместо аргумента, он запустил чернильницей. Антифилологический огонь изъязвляет тело Европы, пылая горящими сопками на земле Запада, навеки опустошая для культуры ту почву, на которой он вспыхнул. Ничем нельзя нейтрализовать голодное пламя. Нужно предоставить ему гореть, обходя заклятые места, куда никому не нужно, куда никто не станет торопиться.
Европа без филологии – даже не Америка; это – цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость запустения. По-прежнему будут стоять европейские Кремли и Акрополи, готические города, соборы, похожие на леса, и куполообразные сферические храмы, но люди и будут смотреть на них, не понимая их, и даже скорее всего станут пугаться их, не понимая, какая сила их возвела и какая кровь течет в жилах окружающей их мощной архитектуры.
Да что говорить! Америка лучше этой, пока что умопостигаемой, Европы, Америка, истратив свой филологический запас, свезенный из Европы, как бы ошалела и призадумалась – и вдруг завела свою собственную филологию, откуда-то выкопала Уитмена, и он, как новый Адам, стал давать имена вещам, дал образец первобытной, номенклатурной поэзии, под стать самому Гомеру.
Россия – не Америка, к нам нет филологического ввозу: не прорастет у нас диковинный поэт вроде Эдгара Поэ, как дерево от пальмовой косточки, переплывшей океан с пароходом. Разве что Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик эоловой арфы, каких никогда не бывает на Западе, – переводчик по призванию, по рождению, в оригинальных своих произведениях.
Положение Бальмонта в России – это иностранное представительство от несуществующей фонетической державы, редкий случай типичного перевода без оригинала. Хотя Бальмонт и москвич, между ним и Россией лежит океан. Это поэт совершенно чужой русской поэзии, он оставит в ней меньший след, чем переведенный им Эдгар Поэ или Шелли, хотя собственные его стихи заставляют предполагать очень интересный подлинник.
У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории.
Поскольку Розанов в нашей литературе представитель домашнего юродствующего и нищенствующего эллинизма, постольку Анненский – представитель эллинизма героического, филологии воинствующей.
Стихи и трагедии Анненского можно сравнить с деревянными укреплениями, городищами, которые выносились далеко в степь удельными князьями для защиты от печенегов, навстречу хазарской ночи.
На темный жребий мой я больше не в обиде:
И наг, и немощен был некогда Овидий.
Неспособность Анненского служить каким бы то ни было влияниям, быть посредником, переводчиком, прямо поразительна. Оригинальнейшей хваткой он когтил чужое и еще в воздухе, на большой высоте, надменно выпускал из когтей добычу, позволяя ей упасть самой. И орел его поэзии, когтивший Еврипида, Малларме, Леконта де Лиля, ничего не приносил нам в своих лапах, кроме горсти сухих трав, —
Поймите, к вам стучится сумасшедший,
Бог знает где и с кем всю ночь проведший,
Блуждает взор, и речь его дика,
И камешков полна его рука;
Того гляди, другую опростает,
Вас листьями сухими закидает.
Гумилев назвал Анненского великим европейским поэтом. Мне кажется, когда европейцы его узнают, смиренно воспитав свои поколения на изучении русского языка, подобно тому как прежние воспитывались на древних языках и классической поэзии, они испугаются дерзости этого царственного хищника, похитившего у них голубку Эвридику для русских снегов, сорвавшего классическую шаль с плеч Федры и возложившего с нежностью, как подобает русскому поэту, звериную шкуру на все еще зябнущего Овидия.
Как удивительна судьба Анненского! Прикасаясь к мировым богатствам, он сохранил для себя только жалкую горсточку, вернее, поднял горсточку праха и бросил ее обратно в пылающую сокровищницу Запада. Все спали, когда Анненский бодрствовал. Храпели бытовики. Не было еще «Весов». Молодой студент Вячеслав Иванович Иванов обучался у Моммзена и писал по-латыни монографию о римских налогах. И в это время директор Царскосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом, впитывал в себя змеиный яд мудрой эллинской речи, готовил настой таких горьких, полынно-крепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал.
И для Анненского поэзия была домашним делом и Еврипид был домашний писатель, сплошная цитата и кавычки. Всю мировую поэзию Анненский воспринимал как сноп лучей, брошенный Элладой. Он знал расстояние, чувствовал его пафос и холод, и никогда не сближал внешне русского и эллинского мира. Урок творчества Анненского для русской поэзии – не эллинизация, а внутренний эллинизм, адекватный дух русского языка, так сказать, домашний эллинизм. Эллинизм – это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это – домашняя утварь, посуда, всеокружение тела; эллинизм – это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи любимой и с тем самым чувством священной дрожи, с каким,
Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей прикрывали
Они святого старика.
Эллинизм – это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. Эллинизм – это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу. Наконец, эллинизм – это могильная ладья египетских покойников, в которую кладется все нужное для продолжения земного странствия человека, вплоть до ароматического кувшина, зеркальца и гребня. Эллинизм – это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя, как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое «я».
В эллинистическом понимании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный круг человека, может стать утварью, а следовательно, и символом. Спрашивается, нужен ли поэтому сугубый, нарочитый символизм в русской поэзии? Не является ли он грехом против эллинистической природы нашего языка, творящего образы, как утварь, на потребу человека?