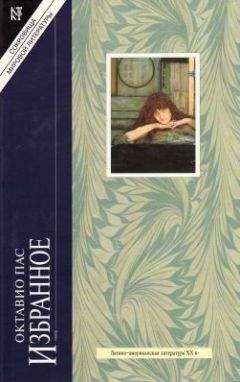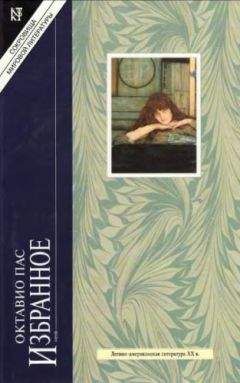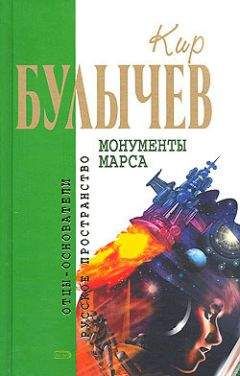Октавио Пас - Освящение мига
Впрочем, садический герой — и это отличает его от вождей, господ и собственников — и не стремится к тому, чтобы чужое сознание исчезло. Напротив, оно ему нужно для того, чтобы его отвергнуть. Оно для него никакая не конкретная вещь и не абстракция. В одном случае чужое сознание меня отражает, оставаясь невидимым, в другом — оно меня не отражает, и я становлюсь невидимым. Как заметил проницательный Жан Полан{194}, мазохизм — вот результат этого противоречия: Жюстина — это Жюльетта. Меж тем само противоречие никуда не девается. Садический герой оказывается на месте собственной жертвы, и все возвращается на круги своя — насильник перестает отражаться в чужом сознании. Садистка Жюльетта себя уже не видит, став для себя невидимой и неуловимой, непрестанно от себя убегая. А для того чтобы себя увидеть, ей надлежит обратиться в страдалицу Жюстину. Жюльетта и Жюстина нераздельны, но узнать друг друга им не суждено. Мазохизм — психологическая, но не философская реакция на садизм. Для того чтобы как-то разделаться с антиномией «эротического объекта» (если это объект, то он не эротический, а если эротический, то не объект), жертва и мучитель должны непрерывно меняться местами. Точнее, садический герой должен быть одновременно по рукам и ногам связан и совершенно свободен. Меж тем эротический партнер — это никакое не сознание и не орудие, это отношение, вернее функция: нечто несамостоятельное, меняющееся в зависимости от изменения аргумента. Жертва — функция садического героя, и не столько в физиологическом, сколько в математическом смысле слова. Партнер превращается в знак, число, символ. Цифры совращают Сада.
Наваждение заключается в том, что каждое конечное число таит в себе бесконечность. Всякое число содержит в себе все числа, весь числовой ряд. Наваждения Сада принимают вид математических формул. Голова идет кругом от умножений, делений, от всей этой арифметики. Благодаря числам и знакам головокружительная вселенная Сада начинает выглядеть более реальной. Это умозрительная реальность. Такие эротические отношения легче постичь умом, чем представить, эти доказательства невообразимы, но в них, по крайней мере, есть какая-то связность; что же касается подробнейших описаний, на которые так горазд Сад, они кажутся совершенной фантасмагорией. Всякий объект эротического притязания больше, чем вещь, и меньше, чем независимое «я», это величина с переменным знаком. Все это комбинации знаков, театр масок, в котором каждый участник исполняет роль какого-то ощущения. Творчество Сада превращается в пантомиму для заводных кукол, причем сюжет пьесы сводится к разнообразным перегруппировкам знаков и обмену ими. Эротический ритуал превращается в какой-то философский кордебалет, в математически расчисленное жертвоприношение. Перед нами театр не характеров, а положений, вернее доказательств. Ритуальное действо, напоминающее, с одной стороны, сакральное ауто Кальдерона{195}, а с другой — человеческие жертвоприношения одержимых геометрической страстью ацтеков. Но в отличие от тех и от других этот театр пуст, в нем нет ни зрителей, ни богов, ни актеров. Садический герой раздевает жертвы только для того, чтобы облачить их в прозрачные одеяния из чисел. О, эта роковая прозрачность! В ней снова растворяется другой, но уже не как непрозрачная вещь, а как бессмертная идея. Садическому герою не отделаться от своих жертв, ведь числа не умирают, единицу можно изничтожить, но из бездыханного тела возникнет два или три. Садический герой обречен на вечное странствие вдоль бесконечного числового ряда. И даже смерть, философское самоубийство ничего ему не даст: нуль — это не число, а отсутствие чисел. И, как в парадоксе Бертрана Рассела{196}, для садического героя наступает миг, когда ему приходится столкнуться с тем, что множество меньше содержащихся в нем подмножеств. Победы садического философа испаряются точно так же, как его ощущения и удовольствия. В конце пути Жюльетта может сказать на манер буддийского монаха: все призрачно. Если природа в своем круговращении уничтожает самое себя, если другой — то ли в виде союза жертвы и палача, то ли в виде неумирающего числа — всегда недостижим и невидим, если преступление оказывается необходимостью и, наконец, если отрицание отрицает себя, а разрушение разрушает себя, что же остается? Остается то, что до всяких систем, остается то, что не дает веществу окончательно развеществиться, некая отменяющая противоположности сверхмораль, в которой покой — это движение, а чувство — бесчувствие. Одной такой запредельной морали учит даосизм, другой — аскетизм йоги, своя — у стоиков. Ницше мечтал о духе, закаленном нигилизмом, о душе, рискующей всем и готовой начать все сначала. В блестящем эссе, посвященном Саду, Морис Бланшо{197} подчеркивает, что в конце концов садический герой приходит к апатии или атараксии. Поначалу Жюльетта, влекомая природной пылкостью, вкладывает в свои преступные деяния слишком много страсти. Ее покровители не одобряют такого поведения, а подруга Жюльетты Клервиль открывает ей, что настоящий распутник бесчувствен и безразличен: «…спокойствие, умеренность в страстях, стоицизм, позволяющий воплотить все желания и все претерпеть без душевного волнения…»
Годы учения завершаются обескураживающим открытием: распутство — не школа ощущений и разнузданных страстей, но попытка встать выше чувств. Сад предлагает наслаждение бесчувственностью, это логическая неувязка или мистический парадокс. По сути дела, речь идет о бесповоротном упразднении теперь уже самого садического героя, и упраздняется он во имя принципа разрушения. Сад не колеблется в выборе между распутником и вселенским отрицанием.
Бесчувствие, лишая смысла разврат, делает из него более совершенное орудие разрушения. Неуязвимый и неумолимый, отточенный, как лезвие ножа, точный, как автомат, это не философ и не сверхчеловек, а раскаленная добела энергия разрушения. Садический герой исчезает. Его исчезновение возвещает победу неживой материи над всем живым. Мне кажется, до сих пор обращали мало внимания на влечение Сада к неодушевленной материи. И не единожды он утверждает, что разрушение — самое естественное из удовольствий и нет удовольствия выше, чем разрушать. Тысячи страниц он посвящает доказательству этого. И его поразительная интуиция (реальная или выдуманная, в данном случае безразлично) поставляет ему сотни примеров. Все эти примеры касаются древних и современных нравов, катаклизмов и катастроф природного мира, кровавых религий, диких страстей, человеческих жертвоприношений, всего арсенала истории, мемуаров, легенд, книг о путешествиях и по медицине. Все это — с одной стороны. А с другой стороны — извержения вулканов, землетрясения, бури. Кровь и молния, семя и лава. Зато животного мира с его изобилием зверских совокуплений и жестоких ласк в этих описаниях и перечнях почти нет. И я имею в виду не только повадки некоторых насекомых, в те времена, возможно, малоизвестных, но и очень близких человеку животных, таких как млекопитающие. В произведениях Сада животных не мучат и очень редко используют как способ наслаждения. Напротив, всяких пыточных орудий и механизмов полным-полно. Впрочем, известно, что Сад был человеком воспитанным и с приятными манерами. Несмотря на то что жизнь с ним обошлась круто, он не раз совершал великодушные поступки, причем иногда по отношению к тем самым людям, которые его преследовали. Мягкость характера сочетается в нем с несгибаемостью убеждений. По мере того как у нас накапливается все больше сведений о его жизни, образ Сада становится все загадочнее: нам известно все больше и больше, но тайна, окутывающая эту личность, остается такой же непроницаемой.
Жестокость Сада — жестокость философского свойства. Это не ощущение, а умозаключение. Может быть, здесь разгадка его отношения к природе. Животное неспособно унизить человека, наше превосходство над животными слишком очевидно. А вот мир неорганической природы — это совсем другое. Он недоступен и бесстрастен, что ему наши муки — человеческие деяния его не задевают. Он вне нас. Это философия в камне, именно она истинный образец для садического героя. Камень не только абсолютно нечеловечен, он просто лишен какой бы то ни было биологической жизни. Он конкретное воплощение вселенского отрицания. Сейчас, полтора века спустя, не так уж трудно заметить ошибки Сада, непоследовательность, небрежности и софизмы. Например, естественного человека нет, потому что человек не природное существо… (Хотя, возможно, Сад одним из первых заподозрил, что естественный человек — нечеловечный человек.) Другой пример. Если человек случаен, то это такой случай, у которого есть самосознание и сознание собственной случайности. Заблуждение Сада и его времени в том и состоит, что человеческое бытие вводилось в русло природного детерминизма и именно с ним связывался случайный и преходящий характер человеческой жизни… (Нынче мы склонны из случайности жизни отдельного человека и всех людей выводить историю, систему.) Этот список можно продолжить. А можно двинуться в противоположном направлении и обозреть открытия и догадки. Они впечатляющи. Но более всего впечатляет зрелище самой системы, этой горделивой тюремной башни, этой выхолощенной гармонии, уходящих ввысь крепостных стен. Угнетенность и богооставленность, и мы узники, хоть у тюрьмы нашей и нет стен.