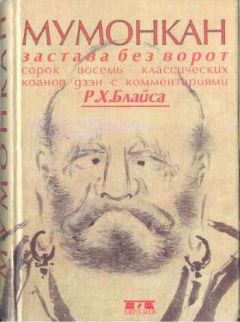Александр Артёмов - Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне
330. ДЕД
Он делал стулья и столы
И, умирать уже готовясь,
Купил свечу, постлал полы
И новый сруб срубил на совесть.
Свечу поставив на киот,
Он лег поблизости с корытом
И отошел. А черный рот
Так и остался незакрытым.
И два громадных кулака
Легли на грудь. И тесно было
В избенке низенькой, пока
Его прямое тело стыло.
331. РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА
Приду к тебе и в памяти оставлю
Застой вещей, идущих на износ,
Спокойный сон ночного Ярославля
И древний запах бронзовых волос.
Всё это так на правду не похоже
И вместе с тем понятно и светло,
Как будто я упрямее и строже
Взглянул на этот мир через стекло.
И мир встает — столетье за столетьем,
И тот художник гениален был,
Кто совершенство форм его заметил
И первый трепет жизни ощутил.
И был тот час, когда, от стужи хмурый,
И грубый корм свой поднося к губе,
И кутаясь в тепло звериной шкуры,
Он в первый раз подумал о тебе.
Он слушал ветра голос многоустый
И видел своды первозданных скал,
Влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство
И образ твой в пещере изваял.
Пусть истукан массивен был и груб
И походил скорей на чью-то тушу,
Но человеку был тот идол люб:
Он в каменную складку губ
Всё мастерство вложил свое и душу.
Так, впроголодь живя, кореньями питаясь,
Он различил однажды неба цвет.
Тогда в него навек вселилась зависть
К той гамме красок. Он открыл секрет
Бессмертья их. И где б теперь он ни был,
Куда б ни шел, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом,
Он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
Такое людям бросил торжество,
Что ты сдалась, когда, припав губами
К его руке, поверила в него.
Вот потому ты много больше значишь,
Чем эта ночь в исходе сентября.
Мне даже хорошо, когда ты плачешь,
Сквозь слезы о прекрасном говоря.
332. «Мне только б жить и видеть росчерк грубый…»
Мне только б жить и видеть росчерк грубый
Твоих бровей, и пережить тот суд,
Когда глаза солгут твои, а губы
Чужое имя вслух произнесут.
Уйди, но так, чтоб я тебя не слышал,
Не видел, чтобы, близким не грубя,
Я дальше б жил и подымался выше,
Как будто вовсе не было тебя.
333. «Я с поезда. Непроспанный, глухой…»
Я с поезда. Непроспанный, глухой.
В кашне, затянутом за пояс.
По голове погладь меня рукой,
Примись ругать. Обратно шли на поезд.
Грозись бедой, невыгодой, концом.
Где б ни была ты — в поезде, вагоне, —
Я всё равно найду,
Уткнусь лицом
В твои, как небо, светлые
Ладони.
334. «Как жил, кого любил, кому руки не подал…»
Как жил, кого любил, кому руки не подал,
С кем дружбу вел и должен был кому —
Узнают всё, раскроют все комоды,
Разложат дни твои по одному.
335. «Когда умру, ты отошли…»
Когда умру, ты отошли
Письмо моей последней тетке,
Зипун залатанный, обмотки
И горсть той северной земли,
В которой я усну навеки,
Метаясь, жертвуя, любя
Всё то, что в каждом человеке
Напоминало мне тебя.
Ну а пока мы не в уроне
И оба молоды пока,
Ты протяни мне на ладони
Горсть самосада-табака.
336. МЫ
Это время
трудновато для пера.
Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не всё умрет. Не всё войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жен!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображен.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперед, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатого плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх — и небо стало чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.
Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжел, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.
Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.
И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!
337. «Я не знаю, у какой заставы…»
Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню… И опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.
338. «Нам не дано спокойно сгнить в могиле…»
Нам не дано спокойно сгнить в могиле —
Лежать навытяжку и приоткрыв гробы, —
Мы слышим гром предутренней пальбы,
Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
ВИТАУТАС МОНТВИЛА
Витаутас Монтвила родился в 1902 году в Чикаго, куда его отец, рабочий, переехал с семьей из Литвы. Но надежды спастись в Америке от нищеты и безработицы не сбылись, и за несколько лет до первой мировой войны семья Монтвилы вернулась на родину.
Недолго проучившись, Витаутас бросил школу и пошел в пастухи, позже — в каменотесы. В 1924 году он поступает в Мариампольскую учительскую семинарию. Вскоре полиция задерживает его за участие в антивоенной демонстрации. В тюремной камере Монтвила знакомится с революционно настроенной молодежью.
Так начинается тяжелая жизнь пролетария и революционера — нужда, бездомность, тюрьма.
После освобождения Монтвила некоторое время учится в Каунасском университете. Но в 1929 году его арестовывают по подозрению в «антигосударственной деятельности», обвиняют в подготовке покушения на премьера Вольдемараса и приговаривают к десяти годам каторги. Межпартийная свара тогдашних хозяев Литвы избавляет Монтвилу от каторжной тюрьмы. Он становится дорожным рабочим, потом наборщиком, потом продавцом в книжном магазине, секретарем союза шоферов…