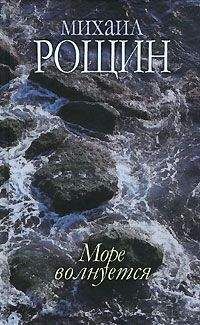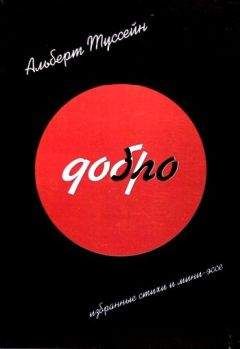Алексей Лозина-Лозинский - Противоречия: Собрание стихотворений
Вернувшись в этот год летом из заграницы, он приехал в нашу усадьбу «Волму», где его и застала война 1914 г. В жажде впечатлений и романтически настроенный вообще, он жалел, что не может идти на фронт, куда его влекли опасности и потрясения боевой жизни, искание героических подвигов, а вернее всего, случайной смерти, которая просто, безболезненно и трагически оборвала бы его жизнь. Как он завидовал друзьям и родным, которые ушли на войну! Он всё проектировал, не мог бы и он сделаться хотя бы летчиком. Но, конечно, при его больной ноге и сильной близорукости это было бы немыслимо. Кстати сказать, он даже носил две пары очков, но последние годы не надевал их вовсе, точно не интересуясь внешним, а весь уходя в себя и свой мир. Что касается до его литературных работ, то писал он всегда много, но много и уничтожал; порою буквально весь пол его комнаты к утру был покрыт лоскутами бумаги. Печатался он впервые в 1908 г., а в 1912 выпустил три томика своих стихов «Противоречия» под псевдонимом «Любяр». Псевдоним этот выбран из полной нашей фамилии: Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский. Он взял первые буквы двух первых ее частей. Издавая свой памфлет «Смерть призраков», он брал псевдонимом вторую часть фамилии – Ярмолович, и только когда эти книги встретили сочувствие и одобрение друзей и лиц, мнение которых он ценил, Алексей Константинович решился печататься под нашей двойной фамилией. Так были изданы им «Тротуар», «Благочестивые путешествия» и «Одиночество». Две последние книги вышли в свет уже после его кончины, в январе 1917 г., но он еще успел их прокорректировать. При жизни его был напечатан его рассказ в «Русских записках» в 1916 г (кажется, за март), под названием «Меланхолия». Впоследствии мне придется сказать о нем отдельно, так как обстановка его смерти удивительно схожа с описанной им смертью «иностранца» в этом рассказе. Начиная с 1914 г. он стал усердно приводить в порядок материалы для своего большого политико-экономического труда: «Торгово-Промышленное Общество», которые он готовил к печати под названием «Антично-Меновое Общество». Все хлопоты по изданию своих произведений он вел сам, причем его частенько эксплуатировали, и тогда он приходил домой после таких переговоров, мытарств и торгашеств совершенно изнервничавшийся и угнетенный прозой этой мелочной и низменной работы. Когда я говорил ему о невыгодности его литературных сделок, он отвечая обычно, что ему «надо торопиться» с печатанием и корректурой, «а то», прибавлял он, «не тебе же вести корректуру». Очевидно, он не оставлял мысли о смерти и всё, всё хотел издать сам и уйти из жизни. Впрочем, издание его книги «Одиночество» взял на себя В. Д. Бонч-Бруевич, отнесшийся к брату тепло и с интересом, что было в ту пору для брата редкостью. Я помню, как осенью 1916 года он долго жил в «Волме». Всё разбирал и сортировал свою переписку и бумаги, аккуратно подбирая по годам и лицам. На мой вопрос, почему он этим занят, он ответил: «надо всё собрать и уложить как следует, а разбирать уж ты будешь». Я вспомнил эти слова, когда через полгода мне действительно пришлось приводить в порядок всё, что после него осталось.
Когда появился в печати его «Тротуар» (август 1916 г.), то со всех сторон посыпались похвалы и о нем заговорили в литературных кружках и в печати. Он часто встречался с молодыми поэтами того времени (Л. Рейснер, Ахматова, М. Л. Лозинский) и был очень окрылен их поддержкой и одобрением. Когда в газете «Речь» (1916 г.) критик Ю. Айхенвальд в фельетоне «Критические наброски» очень лестно отозвался о нем, Алексей Константинович говорил полушутя одному своему приятелю, Гансу Шредеру: «Меня так хвалят, что, право, не стоит теперь и стреляться». Вообще осень 1916 г. проходила для него как будто лучше других лет. В 1915 году он вернулся с севера России, проехав через Архангельск на Мурман, побывав на границе Норвегии, в Печенегском монастыре. Он всегда любил Север и еще мальчиком писал мне с Валаама: «все Крымы мира не стоят ни черта в сравнении с Валаамом». Любил блеклые тона, прозрачность северных вод и лесов, холод и угрюмость их. Любил осень. Это он часто говорил. В Печенегском монастыре ему понравился один монах-старец, и, вернувшись, он много рассказывал об этом трогательном простеце молитвеннике на дальнем севере. Словом, по приезде его в Петербург в нем не было заметно обычного его угнетенного состояния; наоборот, он был полон воодушевления и планов. Как будто бы в нем зрело какое-то решение «для жизни». Он много писал, вел большую и остроумнейшую переписку, печатался кое-где в журналах, занят был корректурой и изданием «Одиночества», книги стихов «Благочестивые путешествия», наконец, поговаривал о женитьбе, т. к. сблизился с одной девушкой, Ек. А. Ш<ульц>, которая платила ему взаимностью. В одном из своих юношеских стихотворений он писал: «изменяя, всё же я знал, что тебе не изменял». Это нужно бы сказать и по отношению ко всем его увлечениям – они были как-то поверхностны, т. к. основное, может быть, безнадежное чувство его всегда было отдано той же Ев. К., мимолетные встречи с которой были, кажется, не особенно часты. Она была та «с духами вялых лилий», что неизменно занимала его сердце. Таким образом, можно сказать, что попытки его наладить жизнь иначе всегда были попытками попробовать забыть свою первую и единственную любовь – Евг. К. И каждый раз, когда была возможность укрепить новое свое чувство и близость к кому-нибудь, он находил поводы, чтобы его не продолжать и оборвать. Так случилось и с Ек. А. Ш<ульц>. Роман этот как будто и стал расстраиваться, хотя весной 1916 г. он и приводил ее в наш дом как невесту, но мы, домашние, как-то плохо верили в возможную прочность этого союза. Осложнившаяся жизнь, ввиду тяжелой войны, дороговизны, отсутствие правильного общего распорядка, неопределенность внешнего течения жизни – всё это сказывалось и на Алексее Константиновичей Он снял комнату на Петерб<ургской> ст<ороне> довольно далеко от центра, т. к. не мог найти ничего более подходящего, на Песочной ул. в д. № 41, почти у Аптекарского острова. По обычаю он выбрал пятый или шестой этаж, т. к. всегда искал «высоты» даже в этом отношении. Все эти хлопоты и мелочи раздражали его, и он приходил к нам «домой» часто усталый и нервный, жалуясь мне то на людей «с глазами кроликов и щупальцами спрутов», то на «мещанские» условия жизни, в которые его втягивала судьба. Несколько упрямо он отказывался от помощи или предложений приехать в семью – очевидно, опять начиная лелеять мысль о самоубийстве. В конце октября было получено известие с фронта, что один молодой офицер, кот<орый> когда-то ухаживал за его ех-невестой Катей Ш<ульц>, был убит в окопах. Говоря с братом по телефону, я между прочим рассказал ему и об эхом. Он немедленно начал наводить справки и узнал где-то и о дне прибытия тела. Он всегда любил ездить проститься с умершими. «Ах, труп для наших душ властительный магнит», – писал он. На похоронах было много народу, в том числе и Катя Ш<ульц>, которая много плакала. Говорят, что это его особенно поразило и потрясло. Так или иначе, в день похорон он вернулся сначала на Измайловский пр. к нашей двоюр<од>н<ой> сестре Е. А. Оф<росимов>ой (рожд. Э<нгельгардт>), где эти последние недели жил, помогая ее старшему сыну готовиться к экзаменам. Уходя, брат простился со всеми, дал много денег за услуги прислуге, подошел к роялю, взял несколько аккордов и вышел… Это было 4 ноября в пятницу, часов в 5 вечера. Дальнейшая картина представляется в следующем виде. Видимо, он прямо проехал к себе на Песочную и там занялся писанием писем. Ни у Оф<росимов>ых, которых он очень любил, ни у нас в семье ничего не предполагали. Вечером в субботу 5/18 ноября 1916 г. я оставался один дома, собираясь куда–то выйти, но почему-то, точно томимый каким-то предчувствием, одетый, в шинели, сидел в столовой. Вдруг раздается телефонный звонок и незнакомый голос вызывает меня. Оказалось, говорит хозяин квартиры с Песочной д. 41: «С вашим братом что-то нехорошо». Меня сразу пронзила мысль о его смерти. «Он умер?» – «Не знаю», отвечает, «но что-то странное». Я немедленно вызвал автомобиль колонны Скорой Помощи Красного Креста, где я был начальником в то время, работая по эвакуации раненых, и с санитарами помчался к брату. Мой отец был у знакомых, по дороге я заехал за ним, и не более как через 30 минут после телефона мы были на Песочной. Я быстро взбежал на шестой этаж и, войдя в комнату, увидел следующую картину. Слева у двери, на своем широком турецком диване полусидел брат. Казалось, что он спал. Лицо его было совершенно спокойно, обычного даже цвета. Прекрасные волосы лежали волнисто вокруг лица, в одной руке была недокуренная папироска, а на коленях, придерживаемая другой, лежала фотографическая карточка нашей покойной матери. Одет он был в свой обычный костюм. Очевидно, он не раздевался на ночь. Было около 9 часов вечера. Я бросился к нему, но он уже был совершенно холодный и закоченевший в своей последней позе. На полу валялось много окурков. Вероятно, он много курил. Около него был придвинут письменный стол, на котором лежали написанные им прощальные письма, в том числе – мне, томик стихов Верлена по-французски, открытый на стихах «Il pleure dans mon coeur, comme il pleut sur la ville», и последняя записка, в которой он записывал все свои предсмертные ощущения. Это небольшой клочок бумаги, начинавшийся словами: «11 ч. – принял яд…» (Морфий). У меня нет ее под руками, но в ней, в 10-12 строках, с перерывами, он записывает свои переживания. Через полчаса отмечает, как гаснет одно окно, потом другое напротив, как закурил папиросу («милая папироска – всю жизнь меня утешала»), еще через несколько строк и минут – что он слабеет («пропал голос», «до кровати, чай, не дойти»), и, наконец, уже совсем слабеющим почерком: «умираю, что будет дальше, мама…» На этом всё обрывалось. Видимо, он взял карточку матери в руки, откинулся на подушку дивана и начал терять сознание. Это было, должно быть, около 12 ч. ночи 4 ноября 1916 г. (См. газеты). Утром горничная, входя убирать, думала, что он спит, т. к. он часто ночью долго писал и утром вставал поздно… Ночью хозяева слышали, что он тяжело дышал и как бы стонал во сне. Только к вечеру они обратили внимание на долгий сон брата и тогда, войдя в комнату, убедились, что брат мой умер. Еще до моего прихода они вызвали полицейского врача, который мог констатировать только полное окоченение. Очевидно, кончина брата произошла часов в 5-6 утра в ночь на 5-ое ноября 1916 г. Через несколько минут подъехала Е. А. Оф<росимо>ва. Горю нашему, а моему в особенности, не было предела. Хотя все у нас обычно как-то были тревожно готовы к вести о его смерти, но совершившийся факт, да еще в такой необыкновенной обстановке, особенно резко подчеркивал нашу утрату.