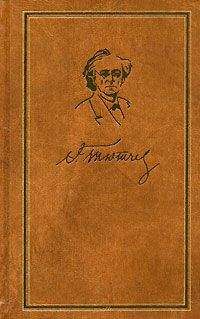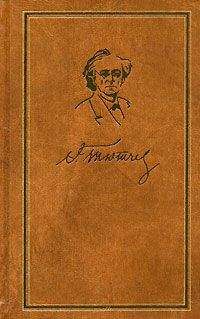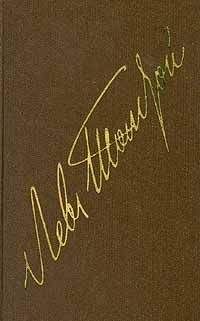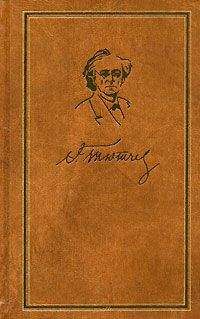Федор Тютчев - Том 3. Публицистические произведения
И уже в послании к автору «интересной записки о текущих событиях» П. Я. Чаадаев, соглашаясь с ее выводами, скрыто иронизирует по поводу недостаточной теоретической осознанности и практической внедренности выдвигаемой Тютчевым положительной идеи — России как истинно христианской державы и альтернативы Революции: «Но, признаюсь вам, меня повергает в изумление не то, что умы Европы под давлением неисчислимых потребностей и необузданных инстинктов не постигают этой столь простой вещи, а то, что вот мы, уверенные обладатели святой идеи, нам врученной, не можем в ней разобраться. А между тем ведь мы уже порядочно времени этой идеей владеем. Так почему же мы до сих пор не осознали нашего назначения в мире? Уж не заключается ли причина этого в том самом духе самоотречения, который вы справедливо отмечаете, как отличительную черту нашего национального характера? Я склоняюсь именно к этому мнению, и это и есть то, что, на мой взгляд, особенно важно по-настоящему осмыслить» (там же).
Уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия. — Знаменательно, что представление о России и Революции как о главных противоборствующих силах было свойственно и классикам марксизма, хотя у них оно получало противоположные оценки и истолкования. Так, Ф. Энгельс в марте 1853 г. подчеркивал: «…на европейском континенте существуют фактически только две силы: с одной стороны Россия и абсолютизм, с другой — революция и демократия» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. М., 1957. Т. 9. С. 15). По его убеждению, ни одна революция не только в Европе, но и во всем мире не может одержать окончательной победы, пока существует теперешнее Русское государство — по-настоящему ее единственный страшный враг. В отличие от Ф. Энгельса, Тютчев рассматривал революционные социально-политические явления не обособленно, а как проявления фундаментальной метафизической тенденции бытия, в которой человек, подобно Адаму, противопоставляется Творцу и ставит себя на его место. Революция для Тютчева есть не только зримое историческое событие, но и — прежде всего — Дух, Разум, Принцип, следствием которого оно (со всем многообразием своих социалистических, демократических, республиканских и т. п. идей) является. Корень Революции — удаление человека от Бога, ее главный результат — «цивилизация Запада», «современная мысль», бесплодно полагающая в своем непослушании Божественной воле и антропоцентрической гордыне гармонизировать общественные отношения в ограниченных рамках «антихристианского рационализма». П. Я. Чаадаев, прочитавший «записку» Тютчева еще в рукописи и распространявший ее в московском обществе, был солидарен с ее выводом. «Как вы очень правильно заметили, — писал он автору, — борьба, в самом деле, идет лишь между революцией и Россией: лучше невозможно охарактеризовать современный вопрос» (Чаадаев. С. 339). Комментируя тютчевские воззрения, И. С. Аксаков подчеркивает: «Этот взгляд на Революцию не как на случайный взрыв, объясняемый злоупотреблениями власти, а как на нравственный факт общественной совести, обличающий внутреннее настроение человеческого духа и оскудение веры в Западной Европе, еще полнее развит у Тютчева в другой его статье, в связи с истолкованием папства ‹…› Заслуга Тютчева в том, что он ранее других постиг Революцию, взглянул на нее не как на практический факт, а как на явление человеческого духа, разоблачил внутреннюю логику ее процесса, безошибочно предсказал ее дальнейшие превращения и последствия и мужественно провозгласил свое осуждение во всеуслышание всей Европы, не смущаясь опасением прослыть за человека нелиберальных и ретроградных мнений, поборника деспотизма и т. д.» (Биогр. С. 137–138). Позднее, в письме к жене от 1/13 апреля 1854 г. Тютчев уточняет свой взгляд на противостояние России и Революции: «Восточный вопрос в том виде, как он теперь пред нами предстал, является не более и не менее, как вопросом жизни или смерти для трех предметов, доказавших до сих пор миру свою живучесть, а именно: Православная церковь, Славянство и Россия — Россия, естественно включающая в свою собственную судьбу оба первые понятия. Враги этих трех понятий прекрасно это сознают, и отсюда проистекает их вражда к России. Но кто эти враги? Как они называются? Не Запад ли это? Быть может, но в особенности это — революция, воплотившаяся на Западе, в коем нет теперь ни одного элемента, не пропитанного революциею» (СН. 1915. Кн. 19. С. 201). В контексте этих устойчивых убеждений неправомочным выглядит мнение Л. П. Гроссмана, что Тютчев, подобно Наполеону, носил в себе революцию и чуял в ней нечто родное и близкое, неудержимо влекущее к себе: «…революция в своем метафизическом плане соответствовала какой-то коренной сущности его души и полным тоном отвечала на ее заветнейшие запросы» (Гроссман Л. Тютчев и сумерки династий // Гроссман Л. Мастера слова. М., 1928. С. 59). С точки зрения Гроссмана, ключ камергера тщательно скрывает от нас трехцветную кокарду Тютчева-республиканца, сочувственного провозвестника наступающей республиканской эры, который не переставал изучать психологию и дух революции во всех ее формах (от греческого восстания и декабристского бунта через польские мятежи и европейские волнения до террора в России и Парижской коммуны) и в конце концов сменил «ужас перед грозным смыслом безбожной революции» на «признание в ней жизненных начал обновления и творческих сил». Подобные суждения противоречат букве и духу тютчевской мысли.
…отсутствие ума в нашем веке, отупевшем от рассудочных силлогизмов… — Тютчев отмечает отрицательное воздействие агрессивного рационализма, который он противопоставляет «уму», подлинной мудрости, позволяющей понимать и оценивать текущие события и явления не в позитивистской сокращенности, а в многомерной полноте исторических связей и судеб. Поэт неоднократно подчеркивал необходимость вменяемости человека по отношению к ограниченным возможностям своего ума в контексте сверхрационального постижения исторического бытия. «Мы увидим, — писал И. С. Аксаков, — как резко изобличает он в своих политических статьях это гордое самообожание разума, связывая с ним объяснение Европейской революционной эры, и как, наоборот, возвеличивает он значение духовно-нравственных стихий Русской народности ‹…› Его я само собою забывалось и утопало в богатстве внутреннего мира мысли; умалялось до исчезновения в виду Откровения Божия в истории, которое всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры» (Биогр. С. 45). Скептическое отношение Тютчева (как и других русских писателей, например Ф. М. Достоевского или Л. Н. Толстого) к рационально-логическому постижению мира и человека и к «научным» системам, конструируемым в отрыве от исторических традиций и религиозных корней, подчеркнуто в ст. В. Е. Ветловской «Проблема народности в публицистике Ф. И. Тютчева (В европейском контексте)» (РЛ. 1986. № 4. С. 149). Христианское Откровение стало в его мысли альтернативой подобным системам и особым знанием, преодолевающим их односторонность. Ср. суждение Н. В. Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас Бог от односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противоположные стороны, из которых одна до времени вам не открыта» (Гоголь. С. 62–63).
Прежде всего Россия — христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. — Для Тютчева православие является «духом», а славянская стихия — «телом» державы. Такое «избирательное сродство» и соподчинение в сочетании с особенностями исторического развития и создавало неподвластную прагматическому рассудку «задушевность» и «смиренную красоту» жертвенного самоотречения и сердечного бескорыстия, которые сам он различал в русском народе (см. стих. «Эти бедные селенья…» (1855), «Умом — Россию не понять…» (1866) и т. п.). В данном отношении взгляды Тютчева совпадали с мнениями других религиозных писателей и славянофильских мыслителей. Так, об органическом соединении христианских начал и славянской природы размышлял Н. В. Гоголь: «Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними…» (Гоголь. С. 192). Сходным образом высказывался и Н. Я. Данилевский: «Самый характер русских, и вообще славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую соответственность с христианским идеалом» (Данилевский. С. 480). И в политических стихотворениях поэта о славянском единстве почти всегда присутствует христианская тема как его основа. Еще в 1842 г. он призывает благословение «Небесного Царя» и уповает на «Божью Благодать» в деле возрождения «Славянской Семьи» и «приближенья Света», в котором польский поэт А. Мицкевич может сыграть роль «вестника Нового Завета». Знаменательно и суждение «постороннего» лица, И. Г. Гердера, писавшего о «теле» славян: «Они были милосердны, гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны, враги разбоя и грабежей» (Гердер. С. 470–471). О влиянии «духа» на такое «тело» писал Ю. Ф. Самарин: «В национальный быт славян христианство внесло сознание и свободу ‹…› славянская община, так сказать, растворилась, приняла в себя начало общения духовного и стала как бы светскою, историческою стороною церкви» (Самарин Ю. Ф. Соч. М., 1900. Т. 1. С. 63). Исключительную роль христианства в душевно-духовном строе русских людей признавал и П. Я. Чаадаев, когда писал П. А. Вяземскому в 1847 г.: «Мы искони были люди смирные и умы смиренные; так воспитала нас Церковь наша. Горе нам, если изменим ее мудрому учению! Ему обязаны мы всеми лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши» (Чаадаев. С. 314). В ст. «Россия и Запад» (написанной в годы Крымской войны и озаглавленной, как и трактат Тютчева) К. С. Аксаков определял «нравственный образ России» тем, что «христианское учение глубоко легло» в основание жизни русского народа. Ф. М. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» рассматривал эти категории как свойства высшего развития личности: «Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли» (Достоевский. Т. 5. С. 79).