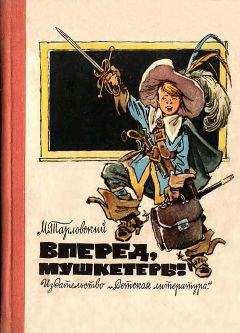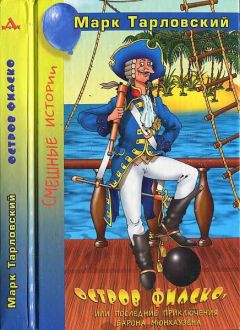Марк Тарловский - Молчаливый полет
Преодоление влияния допролетарской культуры далось мне не сразу. Пожалуй, оно вполне еще и не далось. Между нашей действительностью и тематикой многих моих произведений (а также их оформлением и самой трактовкой тем) был разрыв. Рост моего политического самосознания на протяжении ряда лет опережал мою литературную практику. Угол расхождения граней этого разрыва за последнее время начал, однако, уменьшатся. Это нетрудно усмотреть из настоящего сборника. Наличие в нем вещей, написанных в разные годы и расположенных в хронологическом порядке, должно дать представление о диалектике постепенного формирования моего мировоззрения и о влиянии этого формирования на мою литературную работу. Сопоставление различных частей этого сборника должно показать, что для советского писателя перестройка в сторону приближения к нашей действительности совершенно неизбежна, и, раз начавшись, она должна всё более и более приближать его работу к повседневным задачам нашего социалистического строительства. В этой связи сожалею о том, что не успел включить в настоящий сборник своего стихотворения «(Техника х Чутье)» и некоторых других вещей, написанных в последний период.
Бумеранг. Вторая книга стихов. М.: Федерация, 1932 <Содержание>
Бумеранг
I
Стриж
Дорога
Песок
Ярость предков
Пир Петра
Морская болезнь
Ворон
Урожай
«Муза»
Словарь и песня (см. «Тоскуя»)
Москва
Царская ссылка
II
Два вала
Горы
По следам весны
Экскурсия
Ахштарское ущелье
Стиль «a la brasse»
Мир
Свершитель треб
Обреченный (см. «Зверь»)
Косноязычье
Акробат
Ярославна
III
Ночь в Феодосии
Балаклава
Бахчисарай
Великий ветер
Гриф
Сфинксы
За окном
Убийство посла
Алай (см. «1914–1931»)
IV
Вуадиль
Фергана
План
Стенограмма речи М.А. Тарловского на 2-ом производственном совещании 20 апреля 1932 года[299]
Товарищи, Российская Ассоциация пролетарских писателей пригласила меня к участию в работах поэтического совещанию, так было сформулировано полученное мной письмо. Меня Ассоциация просила принять участие в работах совещания. Я думаю, что если бы она не обратилась ко мне с такой просьбой, то я обратился бы к ней с просьбой хотя бы разрешить мне присутствовать на заседаниях поэтического совещания, потому что я, как всякий, стоящий вне РАПП'а, с величайшим вниманием, вполне РАПП'ом заслуженным, присматриваюсь и прислушиваюсь ко всей его работе, чем дальше, тем больше.
Поскольку меня на совещание не только допустили, но и пригласили, я думал, что будет несомненно создана обстановка для работы спокойной, деловой благотворной.
Не думал я, что на мою творческую работу будет обращено внимание, я знал, что перед РАПП'ом очень много важных вопросов стоят в значительной мере еще не разрешенными, но, допуская мысль, что в какой-то мере моя работа будет затронута, я не думал, что, будучи затронутой, эта работа встретит большую поддержку, что очень мягко будут ее будут критиковать. Я знал, что критика будет жесткой и заслуженной, но никак не думал, что меня будут ругать великодержавной шовинистической сволочью. Не знал я вообще, что такие бранные слова будут употребляться на таком серьезном собрании (смех). Это по меньшей мере, мягко выражаясь, негостеприимно. (Смех). (Авербах: вот это, пожалуй, верно). Я попрошу принять во внимание реплику товарища Авербаха и зафиксировать ее в стенограмме.
Я — лингвист по образованию и привык разбираться в происхождении, в корнях происхождения, в подоплеке слов.
Слово «сволочь» я, например, не воспринимаю совсем как бранное (смех). Я всегда помню, что это слово образовано от глагола «своло чь» и что когда-то, в былые времена, оно совсем не было бранным, только означало пестроту. Если где-нибудь собиралось некоторое количество людей разного происхождения, из разных мест, то их называли «сволочью», от глагола «своло чь».
Так вот, если говорить уже о том, кто откуда «сволочен», кого откуда «сволокли», то думаю, что и меня и Авербаха и многих других сволокли из одной и той же интеллигентской прослойки, из одной и той же старой гимназии (с места: разные бывают интеллигенты).
У Авербаха в тысячу раз больше революционных заслуг, чем у меня (с места: стоит ли сравнивать). В корнях нашего социального происхождения приходится разбираться, если говорить о творческой тенденции, которая мной не преодолена, а Авербахом давным-давно и успешно преодолена. Об этом я считаю необходимым здесь сказать.
Так вот, я слушал творческий отчет Луговского, этот отчет было чрезвычайно интересно слушать, чрезвычайно радостно (с места: правильно), потому что мы помним, как он заявлял эпохе: «Возьми меня в переделку и двинь, грохоча, вперед».
Мы видим, что эпоха взяла его и двинула «грохоча, вперед». Это очень важно и для Луговского и для членов других литературных организаций, которые нуждаются в переделке, подобно Луговскому. Всем, стоящим вне РАПП'а, нужно сказать такую вещь, но не у всех хватает на это смелости и у меня не хватило, потому что, если бы я сказал: «возьми меня в переделку и двинь, грохоча, вперед», то РАПП сказал бы, может быть: «Пока овчинка выделки не стоит».
На это я РАПП'у бы ответил, что овчинка — вещь мертвая, а я — человек живой. Если эту овчинку не берут в переделку, она сама может попытаться себя переделать. И я пытаюсь себя переделать, пытаюсь перестраиваться. Одной ногой я еще вязну в прошлом, но с другой стороны уже, кажется, опираюсь на почву нашей эпохи, нашего настоящего дня. Нужно помочь мне вытянуть ногу из того, в чем она вязнет. Если мне товарищи не помогают, — их вина и мое несчастье. Но с этим несчастьем я мирюсь и продолжаю самостоятельно пытаться вытянуть ногу из прошлого (свою правую ногу — левой ногой я, по-моему, стою на должной почве). Мне товарищем Авербахом, одним из руководителей ФОСП'а, было брошено обвинение. О форме его я с т. Авербахом договорился. А о существе я должен сказать следующее. Я был обвинен в великодержавном шовинизме на основании строчек, взятых т. Авербахом из моего стихотворения «Фергана». Допускаю, что он всего стихотворения не читал (Авербах: нет, читал). Тогда плохо читали. Бывает, что у критика нет времени, слишком быстро прочтет. Я думаю, что если бы это стихотворение прочесть с такой же внимательностью, с какой были прочитаны и подвергнуты критике упомянутые строчки, то нельзя было бы так критиковать это стихотворение, и вот почему.
Это стихотворение представляет собой деловой отчет педагога, который был в Средней Азии на учительской работе. Я преподавал русский язык в Фергане. Надо сказать, что туда я поехал в значительной мере потому, что мне самому стало душно в том идеологическом коконе, которым я был обвернут, обволочен на протяжении многих лет, но который я старался прогрызть в обстановке напряженной работы. Эту работу, — я сейчас употреблю термин, который не отношу к себе, потому что это было бы нескромно, но этот термин вообще необходимо применить, говоря о тамошней работе, — эту работу я должен назвать героической, потому что всякий попадающий в обстановку Ферганской работы, особенно педагогической, волей-неволей чувствует себя обреченным поднимать невероятные тяжести, под грузом которых он иногда может сломиться и надломиться. Я ехал туда в 1930 году и чувствовал себя обратным тому, чем чувствует себя ударник, призываемый в литературу. Я чувствовал себя литератором, призываемым в ударничество, и, когда я туда приехал, мне пришлось работать в среднем по 15 часов в сутки, иногда больше, но никогда не меньше 15-ти. Работы было так много, что организм не выдержал, я заболел и должен был через полгода вернуться в Москву. Я думал, что другие найдутся для замены. Нет, не нашлись. Три человека из местной служилой братии были поставлены на ту работу, которую я один подымал. Стихотворение «Фергана» было напечатано в журнале «Новый мир» еще 7 месяцев тому назад. Когда в конце 1931 года журналу «Новый мир» перемывали косточки, об этом стихотворении не писали в отрицательном плане, не нашли там великодержавного шовинизма, и было бы странно искать. Ведь кто персонажи, кто действующие лица этого стихотворения, этой маленькой поэмы? — Узбеки, таджики, туркмены, казаки, которые совершенно почти не знают русского языка, которые не могут его не ломать, когда они ему учатся. И именно о такой учебно-производственной ломке языка я и говорю в стихотворении (Авербах: скажи о благородном тургеневском языке). Тоже скажу. Там говорится «себе на потребу ломает узбек благородный тургеневский русский язык». Опять напомню, что я лингвист по образованию и знаю великолепно, может быть, не хуже многих других, по специальности, по обязанностям знаю, что всякий язык, и в частности русский язык, неизбежно идет к своей ликвидации, к своему растворению в одном общечеловеческом социалистическом языке. Язык ломается непрестанно, ежеминутно. Тургеневский язык начал ломаться еще при Тургеневе. Язык «Отцов и детей» резко, значительно отличается от языка «Нови», т. е. сам Тургенев ломал тот могучий русский язык, которым он гордился, ломал в порядке строки. Это — диалектика языка.