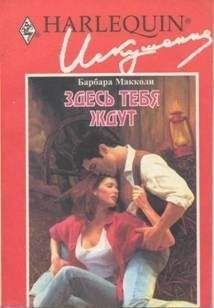Владимир Набоков - Стихотворения
399. «Минуты есть: „Не может быть, — бормочешь…“»{*}
Минуты есть: «Не может быть, — бормочешь, —
не может быть, не может быть, что нет
чего-то за пределом этой ночи»,
и знаков ждешь, и требуешь примет.
Касаясь до всего душою голой,
на бесконечно милых мне гляжу
со стоном умиленья; и, тяжелый,
по тонкому льду счастия хожу.
400. «Сорок три или четыре года…»{*}
Сорок три или четыре года
ты уже не вспоминалась мне:
вдруг, без повода, без перехода,
посетила ты меня во сне.
Мне, которому претит сегодня
каждая подробность жизни той,
самовольно вкрадчивая сводня
встречу приготовила с тобой.
Но хотя, опять возясь с гитарой,
ты опять «молодушкой была»,
не терзать взялась ты мукой старой,
а лишь рассказать, что умерла.
ПЕРЕВОДЫ
Шимус о'Салливэн
401. ОВЦЫ{*}
Тихо проходит
в сумерках серых
по мокрой дороге
стадо овец.
Пробираются тихо
они в полумраке
по мокрой дороге,
что вьется чрез город.
Тихо проходят,
блистая, белея,
и вот уж скрываются
в сумерках серых.
Так прошлые дни
всплывают на миг,
блистают на миг
и снова бледнеют;
те белые дни,
когда мы с тобой
в час вечерний брели
там, где овцы паслись;
когда мы с тобою
шли поступью медленной
в сумерках серых,
где овцы паслись…
Белеют они
и чрез миг исчезают
в горестной дымке
заплаканных лет:
блистают на миг
и, туманясь, уходят
в серую тень
разлучающих лет.
402. OUT OF THE STRONG, SWEETNESS![15]{*}
Свет пасмурный утра земли.
Равнины дрожащие вод.
Полуизгнан хаос
из туманности моря и суши,
и очи богов
сквозь сумрак глядят;
очи богов, и молчанье,
и трепет от смеха богов.
И там, одиноко в тумане, —
тонкие, нежные, робкие,
с большими от страха глазами
олени стоят.
И шепот — он тише, чем мысль:
«Малые, кроткие твари,
в заветной лесной глубине
вас ждет тишина, ваш приют.
Спрячьтесь от взоров и смеха богов
в лиственный мрак».
Пьер Ронсар
403. СОНЕТ{*}
Когда на склоне лет и в час вечерний, чарам
стихов моих дивясь и грезя у огня,
вы скажете, лицо над пряжею склоня:
«Весна моя была прославлена Ронсаром», —
при имени моем служанка в доме старом,
уже дремотою работу заменя,
очнется, услыхав, что знали вы меня,
вы, озаренная моим бессмертным даром.
Я буду под землей, и, призрак без костей,
покой я обрету средь миртовых теней.
Вы будете, в тиши, склоненная, седая,
жалеть мою любовь и гордый холод свой.
Не ждите — от миртовых дней, цените день живой,
спешите розы взять у жизненного мая.
Шарль Бодлер
404. АЛЬБАТРОС{*}
Бывало, по зыбям скользящие матросы
средь плаванья берут, чтоб стало веселей,
великолепных птиц, ленивых альбатросов,
сопровождающих стремленье кораблей.
Как только он людьми на палубу поставлен,
лазури властелин, неловок и уныл,
старается ступать, и тащатся бесславно
громады белые отяжелевших крыл.
Воздушный странник тот — какой он неуклюжий!
Та птица пышная — о, как смешит она!
Эй, трубкою тупой мазни его по клюву,
шагнув, передразни калеку-летуна…
Поэт похож на них — царей небес волнистых:
им стрелы не страшны, и буря им мила.
В изгнанье — на земле, — средь хохота и свиста,
мешают им ходить огромные крыла.
Альфред Теннисон
405. IN MEMORIAM{*}
Вот лунный луч блеснул на одеяле,
И знаю: там, где предан ты земле,
Над западными водами, во мгле,
Бледно и дивно стены просияли.
Там жизнь твою читает лунный свет:
Как перст скользит серебряное пламя
По мраморной доске твоей, во храме,
По буквам имени и числам лет.
И вот сиянье плавное слабеет;
Вот на моей постели луч погас.
Смежаю веки утомленных глаз
И сплю, пока окно не посереет.
Тогда земля туманом заревым
Напоена от краю и до краю, —
И там, во храме сумрачном, я знаю,
Чуть брезжит мрамор с именем твоим.
Уильям Шекспир
406. XVII СОНЕТ{*}
Сонет мой за обман века бы осудили,
когда б он показал твой образ неземной, —
но в песне, знает Бог, ты скрыта, как в могиле,
и жизнь твоих очей не выявлена мной.
Затем ли волшебство мной было бы воспето
и чистое число всех прелестей твоих, —
чтоб молвили века: «Не слушайте поэта;
божественности сей нет в обликах мирских»?
Так высмеют мой труд, поблекнувший и сирый,
так россказни смешны речистых стариков, —
и правду о тебе сочтут за прихоть лиры,
за древний образец напыщенных стихов…
Но если бы нашлось дитя твое на свете,
жила бы ты вдвойне — в потомке и в сонете.
407. XXVII СОНЕТ{*}
Спешу я, утомясь, к целительной постели,
где плоти суждено от странствий отдохнуть, —
но только все труды от тела отлетели,
пускается мой ум в паломнический путь.
Потоки дум моих, отсюда, издалека,
настойчиво к твоим стремятся чудесам, —
и держат, и влекут измученное око,
открытое во тьму, знакомую слепцам.
Зато моей души таинственное зренье
торопится помочь полночной слепоте:
окрашивая ночь, твое отображенье
дрожит, как самоцвет, в могильной темноте.
Так, ни тебе, ни мне покоя не давая,
днем тело трудится, а ночью мысль живая.
408–410. ИЗ «ГАМЛЕТА»{*}
Быть иль не быть — вот в этом
вопрос; что лучше для души — терпеть
пращи и стрелы яростного рока
или, на море бедствий ополчившись,
покончить с ними? Умереть: уснуть,
не более, и если сон кончает
тоску души и тысячу тревог,
нам свойственных, — такого завершенья
нельзя не жаждать. Умереть, уснуть;
уснуть: быть может, сны увидеть; да,
вот где затор, какие сновиденья
нас посетят, когда освободимся
от шелухи сует? Вот остановка.
Вот почему напасти так живучи;
ведь кто бы снес бичи и глум времен,
презренье гордых, притесненье сильных,
любви напрасной боль, закона леность,
и спесь властителей, и всё, что терпит
достойный человек от недостойных,
когда б он мог кинжалом тонким сам
покой добыть? Кто б стал под грузом жизни
кряхтеть, потеть, — но страх, внушенный чем-то
за смертью — неоткрытою страной,
из чьих пределов путник ни один
не возвращался, — он смущает волю
и заставляет нас земные муки
предпочитать другим, безвестным. Так
всех трусами нас делает сознанье,
на яркий цвет решимости природной
ложится бледность немощная мысли,
и важные, глубокие затеи
меняют направленье и теряют
названье действий. Но теперь — молчанье…
Офелия…
В твоих молитвах, нимфа,
ты помяни мои грехи.
Королева Одна беда на пятки наступает
другой — в поспешной смене: утонула
твоя сестра, Лаэрт.
Лаэрт Сестра! О, где?
Королева Есть ива у ручья; к той бледной иве,
склонившейся над ясною водой,
она пришла с гирляндами ромашек,
крапивы, лютиков, лиловой змейки,
зовущейся у вольных пастухов
иначе и грубее, а у наших
холодных дев — перстами мертвых. Там
она взбиралась, вешая на ветви
свои венки, завистливый сучок
сломался, и она с цветами вместе
упала в плачущий ручей. Одежды
раскинулись широко и сначала
ее несли на влаге, как русалку.
Она обрывки старых песен пела,
как бы не чуя гибели — в привычной
родной среде. Так длиться не могло.
Тяжелый груз напившихся покровов
несчастную увлек от сладких звуков
на илистое дно, где смерть.
Лаэрт (прыгает в могилу, вырытую для Офелии) …Теперь заройте с мертвою живого,
сыпучий прах нагромоздите выше
седого Пелиона и главы
Олимпа синего.
Гамлет (подходя) Кто сей, чье горе
так выспренне? Чья печаль
блуждающие звезды заклинает
и слушателей делает из них,
пронзенных изумленьем? Я — Гамлет,
принц Датский.
Лаэрт К дьяволу пускай пойдет
твоя душа!
Гамлет Дурна твоя молитва.
Сними ты пальцы с горла моего,
прошу тебя, хоть вовсе я не вспыльчив,
но что-то есть опасное во мне, —
ты будь благоразумнее. Прочь руку!
Король Растащите их!
Королева Гамлет! Гамлет!
Все Мы просим вас.
Горацио Мой принц, мой друг, не надо!
Гамлет Я с ним готов на эту тему спорить,
покамест у меня моргают веки.
Королева О чем, мой сын, о чем ты?
Гамлет Я любил
Офелию, и сорок тысяч братьев,
свою любовь слагая, мой итог
набрать бы не могли. Что для нее
ты сделаешь?
Король Лаэрт, ведь он безумен.
Королева Молю, будь терпелив…
Гамлет Что можешь ты?
Рыдать? Терзать себя? Поститься? Драться?
Испить отравы? Крокодила съесть?
Всё сделаю. Зачем пришел? Чтоб выть?
Ложись в могилу к ней, — я лягу тоже.
Болтаешь о горах? Так пусть навалят
на нас с тобой земли такую груду,
что темя опалит она о солнце
и Оссу обратит в волдырь. Как видишь,
и я речист.
Королева Всё это лишь безумье.
Так с ним бывает, на него находит, —
а погодя, смиреннее голубки,
уж выведшей птенцов своих златых,
он замолчит, потупясь.
Альфред де Мюссе