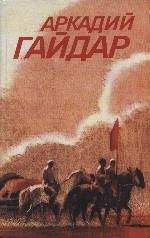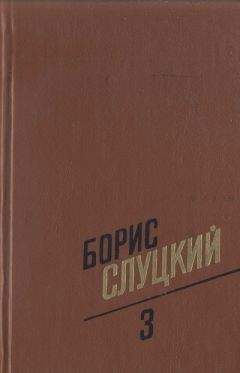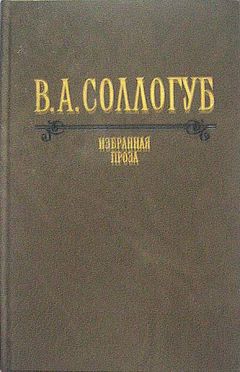Борис Слуцкий - Неоконченные споры
Какой полковник!
Какой полковник! Четыре шпалы!
В любой петлице по две пары!
В любой петлице частокол!
Какой полковник к нам пришел!
А мы построились по росту.
Мы рассчитаемся сейчас.
Его веселье и геройство
легко выравнивает нас.
Его звезда на гимнастерке
в меня вперяет острый луч.
Как он прекрасен и могуч!
Ему — души моей восторги.
Мне кажется: уже тогда
мы в нашей полной средней школе,
его
вверяясь
мощной воле,
провидели тебя, беда,
провидели тебя, война,
провидели тебя, победа!
Полковник нам слова привета
промолвил.
Речь была ясна.
Поигрывая мощью плеч,
сияя светом глаз спокойных,
полковник произнес нам речь:
грядущее предрек полковник.
Стирка гимнастерки
Медленный, словно лужа, ручей.
Тихий и сонный ручей без речей.
Времени не теряя,
в нем гимнастерку стираю.
Выстираю, на себя натяну,
нá небо неторопливо взгляну,
на в головах стоящее
солнышко настоящее.
Долго болталось оно подо мной
в мыльной и грязной воде ледяной.
Надо ошибку исправить
и восвояси отправить.
Солнышко, выскочивши из воды,
без промедления взялось за труды:
в жарком приливе восторга
сушит мою гимнастерку.
Веет медлительный ветерок,
стелется еле заметный парок,
в небо уходит, отважный,
с ткани хлопчатобумажной.
Собака с миной на ошейнике
Хмурая военная собачка
с миной на ошейнике идет.
Собачей в расстегнутой рубашке
за собой ее ведет.
Жарко. До войны не далеко
и не близко. Километров десять.
Цепку дернул собачей легко:
надо псу немедля что-то взвесить.
Все живые существа войны —
лошади, и люди, и собаки —
взвешивать немедленно должны,
ни к чему им тары-бары.
По своим каналам информации —
ветер, что ли, сведенья нанес —
перспективы для собачьей нации
знает этот хмурый, хмурый пес.
Ведро вишни
Пробирается солдат ползком
и ведро перестоявшей вишни,
на передовой отнюдь не лишней,
волочит простреленным лужком.
Солнце жжет, а пули жжик да жжик.
Вишня брызнула горячим соком.
Но в самозабвении высоком
говорит он: — Потерпи, мужик!
Перестаивает война.
К ней уже привыкли.
Притерпелось.
А расчету вишни захотелось,
пусть перестоявшей,
Вот она:
черная, багровая, а сок
так и норовит оставить пятна.
До чего же жизнь приятна!
До чего же небосвод высок!
Самая военная птица
Горожане,
только воробьев
знавшие
из всей орнитологии,
слышали внезапно соловьев
трели,
то крутые, то отлогие.
Потому — война была.
Дрожанье
песни,
пере-пере-перелив
слышали внезапно горожане,
полземли под щели перерыв.
И военной птицей стал не сокол
и не черный ворон,
не орел —
соловей,
который трели цокал
и колена вел.
Вел,
и слушали его живые,
и к погибшим
залетал во сны.
Заглушив оркестры духовые,
стал он
главной музыкой
войны.
Новое выраженье земли
Кое-что перестроили,
что-то снесли —
архитекторы, любят лихие решенья,
и теперь не узнать выраженья земли,
как, бывало, лица не узнать выраженья.
Как сжимала тяжелые зубы война!
Так, что лопались губы от крови соленой.
А теперь веселее пошли времена,
и земля улыбнулась улыбкой зеленой.
Горе горечью наливало глаза
и мотало хмельною с тоски головою.
А теперь пролетает легко стрекоза
над легчайшей и шелковистой травою.
Этот пункт был на карте.
На мушке он был.
Был он в прорези неумолимой прицела.
А теперь его юношей дерзостный пыл
восхищает и тешит меня то и дело.
Не узнать эту местность
на местности той,
где дымок
из единственной печки струился,
бело-серый стремился дымок извитой,
прямо в небо
из печки торжественно вился.
Новое пальто для родителей
Мне приснились родители в новых пальто,
в тех, что я им купить не успел,
и был руган за то,
и осмеян за то, и прощен,
и все это терпел.
Был доволен, серьезен и важен отец —
все пылинки с себя обдувал,
потому что построил себе наконец,
что при жизни бюджет не давал.
Охорашивалась, как молоденькая,
все поглядывала в зеркала
добродушная, милая мама моя,
красовалась, как только могла.
Покупавший собственноручно ратин,
самый лучший в Москве матерьял,
словно авторы средневековых картин,
где-то сбоку
я тоже стоял.
Я заплакал во сне,
засмеялся во сне,
и проснулся,
и снова прилег,
чтобы все это снова привиделось мне
и родителей видеть я смог.
Отцы и сыновья
Сыновья стояли на земле,
но земля стояла на отцах,
на их углях, тлеющих в золе,
на их верных стареньких сердцах.
Унаследовали сыновья,
между прочих
в том числе
и я,
выработанные и семьей, и школою
руки хваткие
и ноги скорые,
быструю реакцию на жизнь
и еще слова:
«Даешь! Держись!»
Как держались мы
и как давали,
выдержали как в конце концов,
выдержит сравнение едва ли
кто-нибудь,
кроме отцов, —
тех, кто поднимал нас, отрывая
все, что можно,
от самих себя,
тех, кто понимал нас,
понимая
вместе с нами
и самих себя.
Черта меж датами
Черта меж датами двумя —
река, ревущая ревмя,
а миг рожденья — только миг,
как и мгновенье смерти,
и между ними целый мир.
Попробуйте измерьте.
Как море меряет моряк,
как поле меряет солдат,
сквозь счастье меряем и мрак
черту
меж двух враждебных дат.
Черта меж датами —
черта меж дотами,
с ее закатами,
с ее высотами,
с косоприцельным
ее огнем
и в ночь переходящим днем.
Третья память
Сначала она означала
обычные воспоминания, —
как в кинозале, мчала
кадры, кадры, кадры.
Но кадры сместились, сгустились,
сплотились, перевоплотились
в густые и горькие чувства
и в легкие, светлые мысли.
Сейчас, по третьему разу,
память — половодье,
но в центре водоворота
моя небольшая щепка,
ухваченная цепко
жестокосердой волною.
Делает все, что хочет,
третья память со мною.
Тяжелая легкость
За тяжелую легкость — истребителя или эсминца, —
с поворотами, схожими с оборотом Земли,
полюбились мне велосипедные спицы,
в раннем детстве еще за собой увлекли.
А за легкую тяжесть — луча или ветра —
полюбил, когда стал выходить постепенно в тираж,
скорость автопробега, мотающего километры,
словно мерную ленту, выбрасывающего
километраж.
И тяжелая легкость, и легкая тяжесть
для начала
пункт А
с пунктом Б
для вас свяжет.
А потом, как привыкнешь,
так и не отвыкнешь,
и, исполненный молодого огня,
сядешь даже в такси
и воинственно гикнешь,
словно сел на коня.
Старый спутник