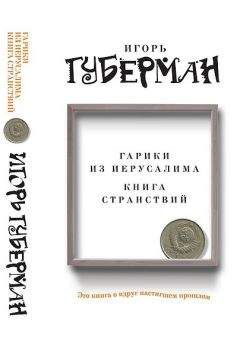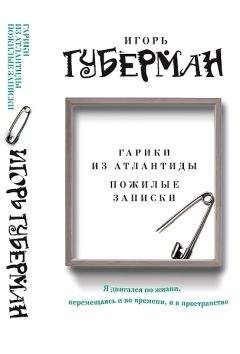Игорь Губерман - Гарики на все времена (Том 1)
206
В тюрьме почти насквозь раскрыты мы,
как будто сорван прочь какой-то тормоз;
душевная распахнутость тюрьмы —
российской задушевности прообраз.
207
У безделья — особые горести
и свое расписание дня,
на одни угрызения совести
уходило полдня у меня.
208
Тюремный срок не длится вечность,
еще обнимем жен и мы,
и только жаль мою беспечность,
она не вынесла тюрьмы.
209
Среди тюремного растления
живу, слегка опавши в теле,
и сочиняю впечатления,
которых нет на самом деле.
210
Я часто изводил себя ночами,
на промахи былого сыпал соль;
пронзительность придуманной печали
притушивала подлинную боль.
211
Доставшись от ветхого прадеда,
во мне совместилась исконно
брезгливость к тому, что неправедно,
с азартом к обману закона.
212
Спокойно отсидевши, что положено,
я долго жить себе даю зарок,
в неволе жизнь настолько заторможена,
что Бог не засчитает этот срок.
213
В тюрьме, от жизни в отдалении,
слышнее звук душевной речи:
смысл бытия — в сопротивлении
всему, что душит и калечит.
214
Не скроешь подлинной природы
под слоем пудры и сурьмы,
и как тюрьма — модель свободы,
свобода — копия тюрьмы.
215
Не с того ль я угрюм и печален,
что за год, различимый насквозь,
ни в одной из известных мне спален
мне себя наблюдать не пришлось?
216
Держась то в стороне, то на виду,
не зная, что за роль досталась им,
есть люди, приносящие беду
одним только присутствием своим.
217
Все цвета здесь — убийственно серы,
наша плоть — воплощенная тленность,
мной утеряно все, кроме веры
в абсолютную жизни бесценность.
218
В жестокой этой каменной обители
свихнулась от любви душа моя,
И рад я, что мертвы уже родители,
и жаль, что есть любимая семья.
219
В двадцатом — веке черных гениев —
любым ветрам доступны мы,
и лишь беспечность и презрение
спасают нас в огне чумы.
220
Тюрьма, конечно, — дно и пропасть,
но даже здесь, в земном аду,
страх — неизменно верный компас,
ведущий в худшую беду.
221
Моя игра пошла всерьез —
к лицу лицом ломлюсь о стену,
и чья возьмет — пустой вопрос,
возьмет моя, но жалко цену.
222
Тюрьма не терпит лжи и фальши,
чужда словесных украшений
и в этом смысле много дальше
ушла в культуре отношений.
223
Мы предателей наших никак не забудем
и счета им предъявим за нашу судьбу,
но не дай мне Господь недоверия к людям,
этой страшной болезни, присущей рабу.
224
В тюрьме нельзя свистеть — примета
того, что годы просвистишь
и тем, кто отнял эти лета,
уже никак не отомстишь.
225
Здравствуй, друг, я живу хорошо,
здесь дают и обед, и десерт;
извини, написал бы еще,
но уже я заклеил конверт.
226
Как странно: вагонный попутчик,
случайный и краткий знакомый —
они понимают нас лучше,
чем самые близкие дома.
227
Как губка втягивает воду,
как корни всасывают сок,
впитал я с детства несвободу
и после вытравить не смог.
Мои дела, слова и чувства
свободны явно и вполне,
но дрожжи рабства бродят густо
в истоков скрытой глубине.
228
Я лежу, про судьбу размышляя опять
и, конечно, — опять про тюрьму:
хорошо, когда есть по кому тосковать;
хорошо, когда нет по кому.
229
В тюрьме о кладах разговоры
текут с утра до темноты,
и нежной лаской дышат воры,
касаясь трепетной мечты.
230
Тюрьма — не животворное строение,
однако и не гибельная яма,
и жизней наших ровное струение
журчит об этом тихо, но упрямо.
231
Сын мой, будь наивен и доверчив,
смейся, плачь от жалости слезами;
времени пылающие смерчи
лучше видеть чистыми глазами.
232
Смерть соседа. Странное эхо
эта смерть во мне пробудила:
хорошо умирать, уехав
от всего, что близко и мило.
233
Какие бы книги России сыны
создали про собственный опыт!
Но Бог, как известно, дарует штаны
тому, кто родился без жопы.
234
Тому, кто болен долгим детством,
хотя и вырос, и неглуп,
я полагал бы лучшим средством
с полгода есть тюремный суп.
235
Скудной пайкой тюремного корма
жить еврею совсем не обидно;
без меня здесь процентная норма
не была бы полна, очевидно.
236
Под каждым знаменем и флагом,
единым стянуты узлом,
есть зло, одевшееся благом,
и благо, ряженое злом.
237
Здесь очень подолгу малейшие раны
гниют, не хотят затянуться, болят,
как будто сам воздух тюрьмы и oxpai-
содержит в себе разлагающий яд.
238
Жизнь — серьезная, конечно,
только все-таки игра,
так что фарт возможен к вечеру,
если не было с утра.
239
Мне роман тут попался сопливый —
как сирот разыскал их отец,
и, заплакав, уснул я, счастливый,
что всплакнуть удалось наконец.
240
Беды меня зря ожесточали,
злобы и в помине нет во мне,
разве только облачко печали
в мыслях о скисающем вине.
241
Сея разумное, доброе, вечное,
лучше уйти до пришествия осени,
чтобы не видеть, какими увечными
зерна твои вырастают колосьями.
242
Под этим камнем я лежу.
Вернее, то, что было мной,
а я теперешний — сижу
уже в совсем иной пивной.
243
Вчера, ты было так давно!
Часы стремглав гоняют стрелки.
Бывает время пить вино,
бывает время мыть тарелки.
244
Страшна тюремная свирепость,
а гнев безмерен и неистов,
а я лежу — и вот нелепость —
читаю прозу гуманистов.
245
Я днями молчу и ночами,
я нем, как вода и трава;
чем дольше и глубже молчанье,
тем выше и чище слова.
246
Курю я самокрутки из газеты,
боясь, что по незнанию страниц
я с дымом самодельной сигареты
вдыхаю гнусь и яд передовиц.
247
Здесь воздуха нет, и пощады не жди,
и страх в роли флага и стимула,
и ты безнадежно один на один
с Россией, сгущенной до символа.
248
Не зря из жизни вычтены года
на сонное притушенное тление,
в пути из ниоткуда в никуда
блаженны забытье и промедление.
249