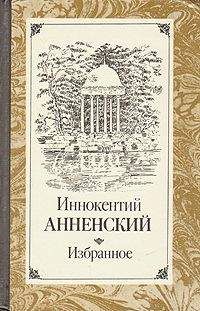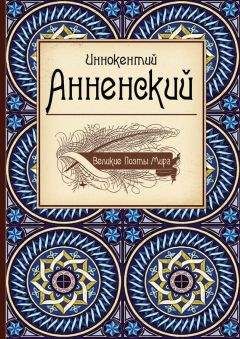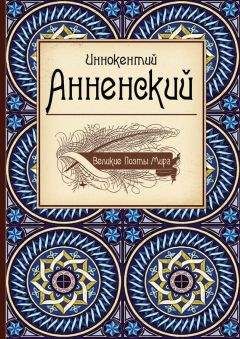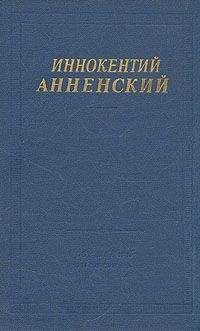Иннокентий Анненский - Переводы
ПОЛЬ ВЕРЛЕН
СОН, С КОТОРЫМ Я СРОДНИЛСЯ
Мне душу странное измучило виденье,
Мне снится женщина, безвестна и мила,
Всегда одна и та ж и в вечном измененьи,
О, как она меня глубоко поняла…
Все, все открыто ей… Обманы, подозренья,
И тайна сердца ей, лишь ей, увы! светла.
Чтоб освежить слезой мне влажный жар чела,
Она горячие рождает испаренья.
Брюнетка? русая? Не знаю, а волос
Я ль не ласкал ее? А имя? В нем слилось
Со звучным нежное, цветущее с отцветшим;
Взор, как у статуи, и нем, и углублен,
И без вибрации, спокоен, утомлен.
Такой бы голос шел к теням, от нас ушедшим…
LE REVE FAMILIER[2]
Мы полюбили друг друга в минуты глубокого сна:
Призрак томительно-сладкий и странный — она.
Маски, и вечно иной, никогда предо мной не снимая,
Любит она и меня понимает, немая…
Так к изголовью приникнув, печальная нежная мать
Сердцем загадки умеет одна понимать.
Если же греза в морщинах горячую влагу рождает,
Плача лицо мне слезами она прохлаждает…
Цвета назвать не умею ланиты ласкавших волос,
Имя?.. В нем звучное, помню я, с нежным слилось.
Имя — из мира теней, что тоскуют в лазури сияний,
Взоры — глубокие взоры немых изваяний.
Голос — своею далекой, и нежной, и вечной мольбой,
Напоминая умолкших, зовет за собой…
1901
COLLOQUE SENTIMENTAL[3]
Забвенный мрак аллей обледенелых
Сейчас прорезали две тени белых.
Из мертвых губ, подъяв недвижный взор,
Они вели беззвучный разговор;
И в тишине аллей обледенелых
Взывали к прошлому две тени белых:
«Ты помнишь, тень, наш молодой экстаз?»
— «Вам кажется, что он согрел бы нас?»
— «Не правда ли, что ты и там все та же,
Что снится, тень моя, тебе?» — «Миражи».
— «Нет, первого нам не дано забыть
Лобзанья жар… Не правда ль?» — «Может быть».
— «Тот синий блеск небес, ту веру в силы?»
— «Их черные оплаканы могилы».
Вся в инее косматилась трава,
И только ночь их слышала слова.
Начертания ветхой триоди
Нежным шепотом будит аллея,
И, над сердцем усталым алея,
Загораются тени мелодий.
Их волшебный полет ощутив,
Сердце мечется в узах обмана,
Но навстречу ему из тумана
Выплывает банальный мотив.
О, развеяться в шепоте елей…
Или ждать, чтоб мечты и печали
Это сердце совсем закачали
И, заснувши… скатиться с качелей?
ПЕСНЯ ВЕЗ СЛОВ
Сердце исходит слезами,
Словно холодная туча…
Сковано тяжкими снами,
Сердце исходит слезами.
Льются мелодией ноты
Шелеста, шума, журчанья,
В сердце под игом дремоты
Льются дождливые ноты…
Только не горем томимо
Плачет, а жизнью наскуча,
Ядом измен не язвимо,
Мерным биеньем томимо.
Разве не хуже мучений
Эта тоска без названья?
Жить без борьбы и влечений
Разве не хуже мучений?
Я долго был безумен и печален
От темных глаз ее, двух золотых миндалин.
И все тоскую я, и все люблю,
Хоть сердцу уж давно сказал: «Уйди, молю»,
Хотя от уз, от нежных уз печали
И ум и сердце вдаль, покорные, бежали.
Под игом дум, под игом новых дум,
Волнуясь, изнемог нетерпеливый ум,
И сердцу он сказал: «К чему ж разлука,
Когда она все с нами, эта мука?»
А сердце, плача, молвило ему:
«Ты думаешь, я что-нибудь пойму?
Не разберусь я даже в этой муке.
Да и бывают ли и вместе, и в разлуке?»
ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ СБОРНИКА «SAGESSE»[4]
Мне под маскою рыцарь с коня не грозил,
Молча старое сердце мне Черный пронзил,
И пробрызнула кровь моя алым фонтаном,
И в лучах по цветам разошлася туманом.
Веки сжала мне тень, губы ужас разжал,
И по сердцу последний испуг пробежал.
Черный всадник на след свой немедля вернулся,
Слез с коня и до трупа рукою коснулся.
Он, железный свой перст в мою рану вложив,
Жестким голосом так мне сказал: «Будешь жив».
И под пальцем перчатки целителя твердым
Пробуждается сердце и чистым и гордым.
Дивным жаром объяло меня бытие,
И забилось, как в юности, сердце мое.
Я дрожал от восторга и чада сомнений,
Как бывает с людьми перед чудом видений.
А уж рыцарь поодаль стоял верховой;
Уезжая, он сделал мне знак головой,
И досель его голос в ушах остается:
«Ну, смотри. Исцелить только раз удается».
ТОМЛЕНИЕ
Я — бледный римлянин эпохи Апостата.
Покуда портик мой от гула бойни тих,
Я стилем золотым слагаю акростих,
Где умирает блеск пурпурного заката.
Не медью тяжкою, а скукой грудь объята,
И пусть кровавый стяг там веет на других,
Я не люблю трубы, мне дики стоны их,
И нестерпим венок, лишенный аромата.
Но яд или ланцет мне дней не прекратят.
Хоть кубки допиты, и паразит печальный
Не прочь бы был почтить нас речью погребальной!
Пускай в огонь стихи банальные летят:
Я все же не один: со мною раб нахальный
И скука желтая с усмешкой инфернальной.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛЮБВИ
Средь золотых шелков палаты Экбатанской,
Сияя юностью, на пир они сошлись
И всем семи грехам забвенно предались,
Безумной музыке покорны мусульманской.
То были демоны, и ласковых огней
Всю ночь желания в их лицах не гасили,
Соблазны гибкие с улыбками алмей
Им пены розовой бокалы разносили.
В их танцы нежные под ритм эпиталамы
Смычок рыдание тягучее вливал,
И хором пели там и юноши, и дамы,
И, как волна, напев то падал, то вставал.
И столько благости на лицах их светилось,
С такою силою из глаз она лилась,
Что поле розами далеко расцветилось
И ночь алмазами вокруг разубралась.
И был там юноша. Он шумному веселью,
Увит левкоями, отдаться не хотел;
Он руки белые скрестил по ожерелью,
И взор задумчивый слезою пламенел.
И все безумнее, все радостней сверкали
Глаза, и золото, и розовый бокал,
Но брат печального напрасно окликал,
И сестры нежные напрасно увлекали.
Он безучастен был к кошачьим ласкам их,
Там черной бабочкой меж камней дорогих
Тоска бессмертная чело ему одела
И сердцем демона с тех пор она владела.
«Оставьте!» — демонам и сестрам он сказал
И, нежные вокруг напечатлев лобзанья,
Освобождается и оставляет зал,
Им благовонные покинув одеянья.
И вот уж он один над замком, на столпе,
И с неба факелом, пылающим в деснице,
Грозит оставленной пирующей толпе,
А людям кажется мерцанием денницы.
Близ очарованной и трепетной луны
Так нежен и глубок был голос сатаны,
И треском пламени так дивно оттенялся:
«Отныне с Богом я, — он говорил, — сравнялся.
Между Добром и Злом исконная борьба
Людей и нас давно измучила — довольно!
И, если властвовать вся эта чернь слаба,
Пусть жертвой падает она сегодня вольной.
И пусть отныне же, по слову сатаны,
Не станет более Ахавов и пророков,
И не для ужасов уродливой войны
Три добродетели воспримут семь пороков.
Нет, змею Иисус главы еще не стер:
Не лавры праведным, он тернии дарует,
А я — смотрите — ад, здесь целый ад пирует,
И я кладу его, Любовь, на твой костер».
Сказал — и факел свой пылающий роняет…
Миг — и пожар завыл среди полнощной мглы:
Задрались бешено багровые орлы,
И стаи черных мух, играя, бес гоняет.
Там реки золота, там камня гулкий треск,
Костра бездонного там вой, и жар, и блеск;
Там хлопьев шелковых, искряся и летая,
Гурьба пчелиная кружится золотая.
И, в пламени костра бесстрашно умирая,
Веселым пением там величают смерть
Те, чуждые Христа, не жаждущие рая,
И, воя, пепел их с земли уходит в твердь.
А он на вышине, скрестивши гордо руки,
На дело гения взирает своего,
И будто молится, но тихих слов его
Расслышать не дают бесовских хоров звуки.
И долго тихую он повторял мольбу,
И языки огней он провожал глазами,
Вдруг — громовой удар, и вмиг погасло пламя,
И стало холодно и тихо, как в гробу.
Но жертвы демонов принять не захотели:
В ней зоркость Божьего всесильного суда
Коварство адское открыло без труда,
И думы гордые с Творцом их улетели.
И тут страшнейшее случилось из чудес:
Чтоб только тяжким сном вся эта ночь казалась,
Чертог стобашенный из Мидии исчез,
И камня черного на поле не осталось.
Там ночь лазурная и звездная лежит
Над обнаженною евангельской долиной,
Там в нежном сумраке, колеблема маслиной,
Лишь зелень бледная таинственно дрожит.
Ручьи холодные струятся по каменьям,
Неслышно филины туманами плывут,
Так самый воздух полн и тайной, и забвеньем,
И только искры волн — мгновенные — живут.
Неуловимая, как первый сон любви,
С холма немая тень вздымается вдали,
А у седых корней туман осел уныло,
Как будто тяжело ему пробиться было.
Но, мнится, синяя уж тает тихо мгла,
И, словно лилия, долина оживает:
Раскрыла лепестки, и вся в экстаз ушла
И к милосердию небесному взывает.
1901