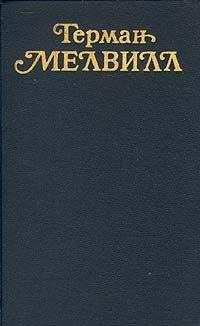Владимир Нарбут - Стихотворения
Об этом «случае» Нарбут писал через год Зенкевичу: «(описывать его — крайне тяжело мне) потерял кисть левой руки и главное младшего брата»[79]. Но семейное предание сохранило подробности нападения «зеленых». Двухлетний сын Нарбута был здесь же. Нина Ивановна успела спрятать ребенка под кровать. А потом отвезла раненого мужа в больницу. Никто не сомневался, что нападение было политическим, покушались на Нарбута-большевика[80].
Гражданская война, на Украине особенно свирепая и кровавая, не двузначная («красные» — «белые»), многоликая (немцы, Деникин, Центральная Рада, Антанта, Петлюра, махновцы, другие), горячо поварила в своем котле Владимира Нарбута, несмотря на его инвалидность. Да он и сам не желал считаться со своей инвалидностью. «Потеря руки сперва была очень неприятна, но потом я освоился, и — уже не так неудобно, как прежде. Ну будет об этом… тяжело…»[81]
Это из Воронежа. Туда Нарбут эвакуировался в марте 1918 г. перед немецкой оккупацией. («Жена и сын — на Украине, мать и сестра — в Тифлисе, брат Георгий […] — в Киеве»)[82]. Он прожил меньше года в прифронтовом Воронеже («В городе — голодно и холодно, вдобавок — сыпной тиф. Короче говоря, дело дрянь, разруха»)[83]. Но оставил там до сих пор нестершийся след. Он стал сменным редактором «Известий воронежского губисполкома», вел в них еще и воскресную «Литературную неделю». Сотрудничал в нескольких других местных изданиях. Был одним из организаторов и председателем губернского Союза журналистов с его клубом «Железное перо». А сверх всего этого затеял и осуществил «Литературно-художественный двухнедельник» — журнал «Сирена».
Полетели письма Чулкову, Ремизову, Зенкевичу, Маяковскому… В них мелькает: «Не знаете ли вы адреса О. Э. Мандельштама?..», «Если встретите К. И. Чуковского?..», «Где теперь К. Бальмонт?..», «Присылай, ради бога больше стихов…», «Нельзя ли у вас купить хорошей журнальной бумаги…». Нарбут и сам дважды вырывается в Москву и в Питер. «Почти все были в разброде („все“ — это писатели). Все же кое-что сколотил для „Сирены“»[84].
«Кое-что» — это неопубликованные стихи Блока и Пастернака, Ахматовой, Орешина и Есенина, проза Замятина и Пильняка, Чапыгина и Шишкова… автограф Горького, приветствие журналу Луначарского. Он опубликовал главы из «России в письменах» Ремизова и первый манифест имажинистов. Он спас для нас «Утро акмеизма» Мандельштама[85].
Он выкупал рукописи, присланные наложенным платежом, добывал продуктовые пайки и разрешения отправлять их посылками в качестве гонораров, привлекал к оформлению лучших графиков того времени — Чехонина, Митрохина, Фалилеева, Замирайло…
Нарбут оказался не только талантливым журналистом, но и прирожденным организатором. И это тоже во многом определило его судьбу[86].
А пока — тонкий провинциальный журнал (и вышло-то всего три книжки) сфокусировал литературно-художественную жизнь России 1918 г., собрал на своих страницах виднейших писателей, поэтов, художников, разбросанных по стране и войне.
Программа «Пролетарского двухнедельника», конечно, совершенно убежденно снабженного таким подзаголовком, в духе классовых чаяний своего времени, однако, решительно и даже полемически противостояла пролеткульту, — воинственно претендовавшему тогда на политическое и нравственно-эстетическое господство: «[…] было бы преступлением: вырвать из рук рабочих масс наследство, оставленное ему художниками слова, только на том основании, что эти последние — из среды буржуазной интеллигенции. И было бы вдвойне преступлением: решать вопрос о новом искусстве столь примитивным способом, как косный отказ от всех тех плодов искусства, которые готовы нести широкому читателю талантливые писатели наших дней»[87].
В конце января 1919 г. Нарбута отзывают в освобожденный Киев «для ведения ответственной работы». И там — в журналах «Зори», «Солнце труда», «Красный офицер» он стремится осуществить ту же программу, надеется продолжить здесь издание «Сирены». Но уже летом Киев занимают деникинские войска.
В эти дни, как в канун предыдущего года, Владимир Нарбут оказался перед лицом смерти. Пробираясь из Киева к красным через Екатеринослав и Ростов-на-Дону, он был схвачен контрразведкой, приговорен к казни и вынужден подписать отказ от своей большевистской деятельности. Но отбитый из тюрьмы конницей Думенко, конечно, сейчас же к этой деятельности возвращается[88] — в Полтаве, Николаеве, Херсоне, Запорожье…
Наконец, с мая 1920 г. в освобожденной Одессе его политическая работа принимает гигантский размах. Здесь он заведует ЮгРОСТА (южным отделением Всеукраинского бюро Российского Телеграфного Агентства, позднее переименованного в ОдУкРОСТА — одесское отделение)[89], отсюда выезжает в ноябре 1920 г. в Крым для организации там печати[90]. А в 1921 г. переезжает в Харьков — столицу республики — директором РАТАУ (Радио-телеграфного агентства Украины).
Нарбут реорганизует работу ЮгРОСТА. Прежде всего привлекает в нее самую талантливую творческую молодежь Одессы — поэтов, прозаиков, журналистов, художников. Бабеля, Багрицкого, Олешу, Катаева, Кольцова, Славина, Бондарина, Ильфа, Инбер, Шишову, Адалис, Бориса Ефимова — всех, кто потом проявил себя в советской культуре 30-х годов. Все работали на ЮгРОСТА. Плакаты, аналогичные московским «Окнам» сатиры Маяковского, в Одессе «пользовались, — по выражению Нарбута, — рамой из шумных перекрестков и площадей»[91], крупноформатная газета «ЮгРОСТА» расклеивалась в виде афиш. Конечно, он создает литературно-художественный журнал — «Лава». А затем и сатирический — «Облава». По всему городу, в центре, на Молдаванке, Пересыпи, в порту, в области — открываются агитационно-информационные центры — «Залы депеш», с устными, экранными, телефонными газетами, летучими концертами, поэтическими вечерами. Литературный кружок — мы уже назвали его участников — «Коллектив поэтов» выступает с «Устными сборниками», целыми поэтическими спектаклями — в столовых, расположившихся на месте бывших фешенебельных кафе, а затем и в особом поэтическом кафе «Пэон IV».
Этот напор, масштабность выражают не только время действия, но и натуру самого Владимира Нарбута, в чем-то напоминают его стихи.
Что ж, ведь 15 мая 1918 г. в Одессе появился не только политработник Нарбут, но и Владимир Нарбут-поэт, знаменитый акмеист, уже известный местной литературной молодежи, главным образом через начитанного Багрицкого. Он вошел в их поэтическую жизнь и возглавил ее не столько как работодатель, обеспечивший куском хлеба и трибуной, — что, впрочем, было немаловажно, но и как старший товарищ по цеху. Посмотрим на Нарбута глазами одного из них:
«…На сцену вышел поэт Владимир Нарбут, — это вспоминает Константин Паустовский, — сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его. Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом:
А я трухлявая колода,
Годами выветренный гроб…
Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывалась щемящая и невообразимая нежность:
Мне хочется про вас, про вас, про вас
Бессонными стихами говорить.
Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина…»[92]
То была пора, быть может, самой интенсивной поэтической жизни Владимира Нарбута. Он публиковался в периодике многих городов Украины. Между 1919-м и 1922 г. вышло 9 его книг.
Многозвучный, широкий поток поэзии Нарбута в периодике этих лет и в книгах отчетливо обнаруживал три струи, — обособленных, хоть и не чуждых друг другу.
Первая — «рабочая», агитационная, — прямые лозунговые стихи-призывы, связанные с потребой войны, политики, «злобой» дня, стихи-однодневки. Нарбут, видимо, так и смотрел на них — ни одно не включил в итоговую книгу 1936 г. Но и в них проступают черты его неординарности. Чего стоит хотя бы врывающееся в праздничное стихотворение «1 мая» трагическое звучание: «знамена кровью не горят,// и гаснет серп// и меркнет молот.// Идет, кладет за рядом ряд// скелетов человечьих голод», и так до последней строки.
Вторая струя — настойчивое утверждение Нарбутом своих дореволюционных стихов. Вопреки бытующему до сих пор суждению, что Нарбут «отошел от эстетических принципов акмеизма», он переиздает «Аллилуйю». Хотел сделать это еще в Киеве 1919 г., но не успел и осуществил в Одессе, в 1922-м. А в 1920-м собирает книгу «Плоть».
Зенкевич из Саратова в рецензии на эту книгу, приветствуя ее и горячо рекомендуя читателю, сетует, что «она вся составлена из стихов 1913–1914 годов»[93]. Но «Аллилуйя» и «Плоть» 20-х гг. собрали нам Нарбута-акмеиста 10-х. А быт в «Плоти» полней, многообразней, даже порой и страшней, чем в «Аллилуйе». Но и воздуха, света здесь больше. «Горшечник» уже не так одинок и в этой книге. И, может быть, ключевым следует считать в «Плоти» стихотворение «Столяр», где простое ремесло возвышается до духовного подвига.