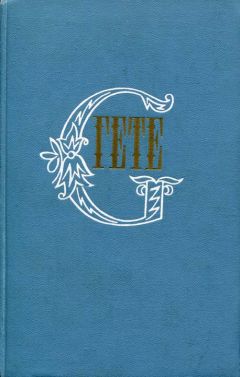Новелла Матвеева - Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи
Отец мой, Николай Николаевич Матвеев (по псевдониму — Бодрый), по моим всегдашним (времён детства) представлениям имел — при любых переменах — три основные должности: историка, лектора и партийного работника. Лишь много позже я поняла, что отец не просто историк, но и краевед (хотя любимый предмет и любимая тема его краеведения — Дальний Восток и Сибирь — исстари переполняли наш дом: рукописями, фотографиями, вырезками, книгами, открытками). Коммунист? Это бы я тоже ещё как-нибудь поняла, не будь при этом слове сопутствующего (и всё — путающего!) «партийный работник». «Докладчик»? Ну, это для того, что взрослые очень умны и мудры, а я не должна даже надеяться во всём так легко разобраться. Иное дело — «лектор»! Значение этого слова дошло до меня почему-то очень рано, а дополняющее «оратор» звучало даже ещё лучше! «Оратор»! — что за чудесное слово! И замечательная должность какая! К этому выводу я пришла (в большой мере) самостоятельно, отдельно и тайно от всех. Одним словом, не у всех детей отцы — лекторы. А нашего — разбуди в три часа ночи — так он тебе сразу лекцию прочтет!
Как человек сугубо увлечённый, энтузиаст во всем, к чему был привязан воспитанием и средой, идеалист в чем-то — до пылкого ослепления, отец даже нам, своим детям, стремился внушить почтение к тому, что он считал романтикой революции. В повести Максима Горького «Детство», как мы все это помним, у деда Каширина был свой Бог, — карающий и якобы беспощадный. Зато у бабушки героя повести (в наше время почти такой же знаменитой, как сама Арина Родионовна!) Бог был, как мы знаем, другой — добрый и всепрощающий. Всё так. Но вот ведь и революция была — у кого какая! Тоже не у всех одинаковая. Если взять её в мечтах, а не в практике (на которую рано или поздно, а у всех людей, точно у кукол хлопооких, должны были раскрыться глаза), то и она, революция, — у кого была карающая, у кого — всепрощающая. И у отца моего была как раз эта, вторая. Не только принципиальная, доблестная и честная, но и — (как сам Господь!) — добрая и милосердная, одно слово — «гуманистическая». Во всяком случае такою её отец видел, потому что имел в виду её первых авторов, — давних, далеких, и её, так сказать, посылы, а не ссылки её и не начинавшиеся последствия.
Его зрение было приспособлено видеть лишь Идеал Коммуны; при всей его умной наблюдательности его глаза не были так устроены, чтобы в обожаемой Коммуне быстрее и раньше всех других начать замечать неладное. «Беззаветная преданность», «беззаветное служение» — вот понятия, смолоду прижившиеся в его словаре и звучавшие в его устах кристальной искренностью и честностью, тем более несомненными, что на своих убеждениях он не только ничего не нажил, но и категорически не хотел наживать.
С каким высоким воодушевлением он произносил своё любимое четверостишие из Гюго!
О Родина! Когда без силы
Ты пред тираном пала ниц, —
Раздастся песня из могилы
В ответ на стоны из темниц!
Каким громоподобным делался его голос на двух вторых строчках, каким ликующим ударением он подчеркивал слово «песня»! И — с глазами, сияющими верой (и непобедимым добродушием!), — крепко сжимал кулак… Все тираны оставались для него, конечное дело, в прошлом. (В настоящее забредали оттуда разве лишь отдельные горькие недоразумения!) И никакие обстоятельства не властны были своротить отца с однажды (в прекрасной, отважной юности) избранного им пути.
Мама — хотя и находилась под явным политическим влиянием отца (особенно в молодости, что и отразилось на молодом её творчестве) — всё же, чем дальше, тем больше склонялась к скептическому пересмотру происходившего. И уж во всяком случае критическому.
Думаю, что в юности моих родителей наверняка был какой-то период их совместного поклонения героической поэзии Гюго. Медленно, бережно, издалека мать начинала — с какой-то печальной важностью (вроде бы вообще ей не свойственной):
На баррикаде,
кровью залитой,
Ребенка лет двенадцати
С толпой
Других бойцов — солдаты захватили…
Даже то, как произносила она первые два слова: «На баррикаде…», — вдруг пригвождало вас к месту. И запоминалось уже на всю жизнь. Речь, конечно, о чуть более позднем детстве (не из этой главы), но именно тогда, в детстве, был мне первый спазм; первый перехват горла перед явлением настоящей поэзии. Виной — не только сами (вышеприведенные) стихи, но и то, как читала их моя мать.
Все чтецы-декламаторы (в том числе и те, которые считаются лучшими), все, кого мне ещё доводилось слушать после знакомства с декламацией моей матери — декламацией баснословно-богатой и недосягаемо-простой, — все они показались мне потом такими суетными, словно бы не читали, а торговали искусственными павлиньими перьями… (Естественные павлиньи перья я никогда не ругаю; их, во всяком случае, никто не подделывал.)
Возможно, я была к большинству артистов несправедлива. Но ведь меня и самоё — как подменили! Если так можно выразиться, мой слух был навсегда испорчен музыкой Идеала и ничего иного больше не принимал.
Разумеется, баррикады Виктора Гюго (всегда общечеловеческие, никогда не сектантские) никак не могли бы развести отца и мать на два враждующих лагеря! Поэт вообще никого не разъединяет. И в этом подобен тому Небесному Коню (из поэмы Ивана Киуру «Скакун»), который — конь — говорит:
Я дружбу сеял. (Пусть вражду
разносит подлый раб!)
и который (конь) объединяет и связывает гору с горой, город с городом и со страной — страну… Но ведь известно, что не одни великие поэты и небесные скакуны в революциях бывают замешаны, иначе революции не приводили бы не только к семейным, но и к мировым «размолвкам»… (А прежде всего — они ведь и сами бы не понадобились, революции эти!)
Итак, мама далека была от восхищения существующим строем. Она принимала его принципы, но в их так называемом воплощении видела много порочных мест. О Сталине она говорила: «Как же ему можно верить, если он сам позволяет себя называть „великим“?!» И произносила она это таким спокойно-презрительным тоном! — пренебрежительно-ровным, без повышений и понижений. Помню, отец, отвечая ей, ссылался на то (железное и впрямь!) обстоятельство, что льстецы не спрашивают: называть ли и кого им называть «великими»; что это они делают обычно «по собственной инициативе», но… слово за слово — и у матери с отцом доходило даже до ссоры и полного разруга. Отец уходил, хлопнув дверью…
Тут я, конечно, опять забегаю вперед: говорю не о детстве из этой главы, но о более позднем, чуть-чуть более понятливом детстве. А натурально, я ни в какие времена не любила обстановки размолвок! Мне гораздо больше нравилось то, как все мы «чайпили». (Не «пили чай», а именно — в одно слово — «чайпили»: — «Ты почайпила?») Нравился мне и час, когда мы находились всего лишь где-то на подступах к этому дальневосточному священнодействию. И папа, шумя новой газетой, читал её то про себя, то (в особенных для него местах текста) — вслух… Или с живостью рассказывал последние новости, витающие вне газеты, но как бы слетавшиеся на её шум, и — с непременной доброжелательностью, а то и с восторгом — называл имена своих (общих с мамой) друзей и знакомых.
Впоследствии мама рассказала мне — как ретиво и сосредоточенно я участвовала в малолетстве в семейных чаепитиях. «Ты пила чай до тех пор, пока на носу пот бисером ни выступал». Между прочим, я и взрослая сохранила верность ордену знаменитых «московских водохлёбов». Но всё-таки я не знала, что вступила в него так рано и так рьяно! И свидетельство матери было для меня некоторым образом неожиданностью. Помню ещё, что (периодически) на наших семейных чаепитиях кто-нибудь из взрослых произносил: «Чаепитие в Мытищах!»
Как сейчас помню, отец никогда не отмахивался от нас, если мы начинали приставать к нему со всеми этими нашими «где», «когда», «кто», «как», «почему» и «зачем», а терпеливо, охотно и весело разъяснял нам любой, приличный для наших калибров, вопрос. И — никогда никаких «некогда мне тут с вами» или «вырастешь, Ваня, узнаешь».
Конечно же, даже такие две маленькие завзятые эгоистки, какими были мы с сестрой (во всяком случае за свой эгоизм я ручаюсь!), будучи и постарше и поумней — могли бы заметить (по той усталой рассеянности, с какой подчас отвечал нам отец), что ему бывает и не до нас. Но… «Сестра и я вопрос возводим на вопросе: / Нас потрясает мир и все, кто в нем живет», — как сочинила я впоследствии… Потому что у нас хватало нахальной дерзости даже удивительную рассеянность отца относить к полю чудес и новооткрытий света. Как пеликан, говорят, питает своих детей собственной кровью, так даже отдельные незадачи наших родителей, казалось, питали нашу неутомимую пламенеющую любознательность! Лишь до открытия сострадания нам было не в пример далеко, — да и что мы в ту пору могли по-настоящему понимать?! Но зато мы сразу учуяли, что отец наш в чем-то и сам — дитя, и, собственно, наш товарищ. И что при всей глобальности обуревавших его взрослых забот и проблем он, может быть, и сам рад бывает отвлечься от них на наши, не такие серьёзные, но зато куда более светлые, занимательные, весёлые… (Какими они ему несомненно казались, какими показались бы теперь и нам самим!)