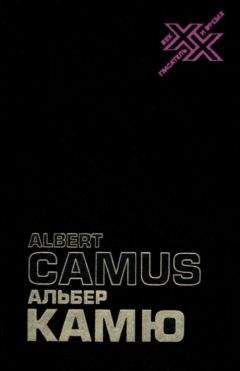Александр Городницкий - И вблизи и вдали
Провожая нас в полярную экспедицию, друзья и приятели наказывали нам привезти в качестве сувенира одну весьма своеобразную костяную часть тела моржа, которую, как они были уверены, легко можно было обменять на любом стойбище на водку. Нигде, однако, куда бы мы ни заходили, сделать нам это не удавалось. Помню, как раз в проливе Вильницкого, во время очередной ледовой проводки, когда мы все стояли, расписанные по водяной тревоге, радист принес мне такую радиограмму от моего приятеля Олега Николаевича из Геленджика: "Привет вам Арктике суровой мечтаю получить моржовый". Замерзший и злой, я тут же заскочил в радиорубку и отправил ему ответ: "Пока что нам не до моржа живем за собственный дрожа". Больше всего расстраивался отсутствием моржовых сувениров Смилга, пообещавший непременно привезти хотя бы один такой экспонат в свой Курчатовский институт. Уже на рейде, неподалеку от Тикси, где мы должны были его высаживать, в самый разгар прощальной вечеринки, вышедший на палубу Смилга вдруг заметил какого-то любопытного моржа, высунувшего свою усатую морду неподалеку от судна. Вольдемар Петрович немедленно кинулся в каюту, схватил поллитру и выбежал на палубу. Находясь, по-видимому, в состоянии некоторого аффекта, он начал, рахмахивая руками и показывая бутылку моржу, предлагать ему взаимовыгодный обмен. Заинтересованный морж подплыл уже почти к самому борту. Но тут из морских глубин неожиданно вынырнула его разгневанная подруга. Дав супругу мощный подзатыльник, она решительно увлекла его за собой в глубину, негодующе фыркнув напоследок в сторону Смилги.
Ведомый ледоколами через ледовые поля, изрядно поредевший караван (часть судов отстала в попутных портах из-за аварий, а часть ушла на Обь и на Енисей) упорно двигался на восток. Не по этому ли мрачному маршруту возили когда-то безвинно осужденных на Колыму и Чукотку? Размышляя об этом, я написал песенку "На восток", которая особенно понравилась Смилге. Взяв ее на вооружение на борту нашего судна "Морской-10", он уже не расставался с ней на берегу. Особенно ему понравился припев: "А птицы все на юг, а люди все на юг - мы одни лишь на восток". По уверениям его жены, как только он начинал петь "про птиц", следовало срочно забирать его из-за стола.
Выйдя в Берингово море, где нам уже не угрожали льды, мы зашли для отдыха и мелкого ремонта в бухту Натальи на побережье Чукотки. Согласно лоции, в этой бухте располагались крабзавод и рыбзавод. Уже войдя в бухту, мы заметили многочисленные костры на берегу. В бинокль можно было разглядеть, что местное население, как оказалось, почти сплошь состоящее из женщин, радостно приветствует приближение трех наших судов. Как раз в этот момент пришел по радио приказ начальника экспедиции: "Во изменение первого приказа в бухту Натальи не заходить, заходить в бухту Святого Павла. Шлюпок не спускать". Осторожное начальство решило избежать контактов судовых экипажей с вербованными женщинами. Так мы и остались без крабов и без рыбы. По этому поводу была написана грустная песенка про бухту Натальи.
БУХТА НАТАЛЬЯ
В распадках крутых непротаявший лед –
Зимы отпечатки.
Над бухтой Наталии рыбозавод
У края Камчатки.
Как рыбы, плывут косяки облаков,
Над бухтой клубятся.
Четыреста женщин - и нет мужиков:
Откуда им взяться?
И жаркие зыблются сны до утра
Над бабьей печалью,
Что где-то с добычей идут сейнера
На бухту Наталью.
На склонах во мхах, как огни маяков,
Костры задымятся...
Ведь нету в поселке своих мужиков -
Откуда им взяться?
По судну волна океанская бьет
Сильнее свинчатки.
Над бухтой Наталии рыбозавод
У края Камчатки.
Там гор в океан золотые края
Уходят, не тая.
Прощай, дорогая подруга моя,
Наталья, Наталья!
Уже на последнем этапе перегона, после захода в Петропавловск-Камчатский, где милиция забрала нашего моториста, учинившего пьяную драку в ресторане "Вулкан", когда мы пересекали Охотское море, направляясь к устью Амура, неожиданно пришло штормовое предупреждение. Надвигался осенний тайфун, как обычно носивший одно из нежных женских имен. Деваться нам было некуда. Под защиту берега мы убежать не успевали, так как находились в самой середине моря. В то же время судно наше "река-море" никак не рассчитано было на борьбу с океанскими тайфунами. Оставалось вставать "носом на волну" и ждать своей участи. В довершение всех неприятностей на втором судне такого же типа, следовавшем за нами, отказал двигатель. Надо было брать его на буксир в самый разгар шторма. Был объявлен аврал. Надо сказать, что трехчасовая возня с заводом в шторм буксирного конца (который через полчаса лопнул, и все пришлось начинать сначала), небезопасная и грязная работа на захлестываемой волнами палубе, полностью отвлекли нас от печальных и панических мыслей. Еще через два часа починили, наконец, двигатель на втором судне, и мы благополучно отштормовали, пока тайфун не пронесся дальше. Помню, как поразила меня после этого повесть Георгия Владимова "Три минуты молчания", где описывается аналогичная ситуация: в критическом положении вдруг оказывается, что другому еще хуже, и надо срочно ему помочь, забываешь на время о своей беде, и становится легче.
По возвращении в Москву осенью семьдесят второго мне снова пришлось приступить к постылым бумажным делам в Координационном центре. Помню, как раз в это время в Москве состоялось совещание руководителей морских институтов стран-членов СЭВ. Мне было поручено встречать и опекать представителя ГДР доктора Оскара Мильке - высокого и статного арийца с голубыми глазами и густыми, слегка тронутыми сединой, волосами. На банкете, посвященном окончанию совещания, который состоялся в столовой Дома Ученых на Кропоткинской, мы оказались с ним за столом рядом. Во главе стола сидел замдиректора, пожилой вальяжный красавец Андрей Аркадьевич Аксенов, время от времени провозглашавший разного рода официальные тосты. Мы же с доктором Мильке сидели довольно далеко, и надо было как-то общаться. Общение это было несколько затруднено тем, что ни по-русски, ни по-английски уважаемый доктор как будто не понимал, а мои познания в немецком языке, который я учил когда-то в школе, ограничивались фразой из учебника пятого класса "Анна унд Марта заген". Тем не менее, по мере роста числа тостов, провозглашенных Аксеновым, языковой барьер понемногу начал разрушаться. Я попал за банкетный стол прямо с работы, голодный. Поэтому, когда подали бифштекс, то по извечной своей привычке совершенно автоматически съел сначала гарнир, оставив мясо "для кайфа" на по том. Вдруг я заметил, что доктор Мильке с удивлением смотрит на мои действия и спрашивает: "Варум?" На обломках немецкого, английского и русского языков я начал объяснять ему, что я ленинградец, что детство мое пришлось на голодные военные годы, и что поэтому мясо для меня на всю жизнь - деликатес, который я оставляю на потом. Он, видимо, отлично все понял. Наполнив не рюмки, а полные фужеры водкой из новой бутылки, он вдруг хлопнул меня по плечу со всей арийской мощью и радостно закричал на весь стол, явно передразнивая мои беспомощные англо-немецко-русские слова: "Ин зис кейс вир зинд бразерс дас ист фюр руссиши - земляки". "Потому что, — продолжил он уже на русском языке, — я как раз есть воевал ленинградский фронт!"
Переезд в Москву осложнил и мои литературные дела. В конце семьдесят первого года в Ленинграде, в издательстве "Лениздат" вышла вторая книжка моих стихов, "Новая Голландия", во многом благодаря помощи и поддержке Нины Александровны Чечулиной, работавшей тогда редактором в отделе поэзии. В начале семьдесят второго года я сдал в Ленинградское отделение издательства "Советский писатель" рукопись третьей книжки. К этому времени я снова подал документы на прием в Союз писателей. Помню, как давший мне рекомендацию ленинградский поэт Вадим Шефнер сказал, горестно вздохнув: "Саша, у Вас плохие рекомендации. С такими рекомендациями в Союз могут не принять". "Почему?" – удивился я. "Ну, как же - рекомендации трех евреев". "Почему трех?" "Всех, трех, — продолжал Шефнер, — Слуцкий, Самойлов и я". "Но ведь Вы же - не еврей!" "Да, да, конечно, – я швед. Но кто это знает? Фамилия-то - Шефнер". Светловолосый и голубоглазый Вадим Сергеевич Шефнер вел свой род от шведского полковника, взятого когда-то в плен в битве под Полтавой.
В Союз писателей меня все-таки приняли осенью семьдесят второго года, уже после переезда в Москву. В связи с этим меня вызвал к себе генерал КГБ Ильин, возглавлявший тогда московскую писательскую организацию, и предупредил, что меня поставят здесь на учет только в том случае,' если дам подписку, что никаких жилищных претензий к московской писательской организации я иметь не буду. "Мы Вас сюда не звали и жилье Вам давать не обязаны", — заявил он.