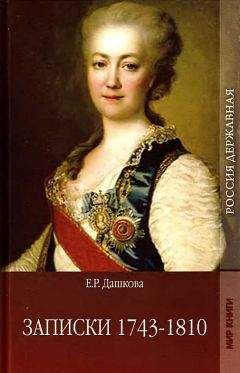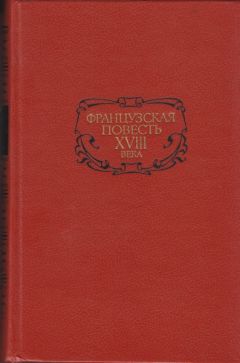Борис Пастернак - Сестра моя, жизнь
1953
Весенняя распутица
Огни заката догорали.
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.
Болтала лошадь селезенкой,
И звону шлепавших подков
Дорогой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.
Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.
Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,
И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.
А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата
Неистовствовал соловей.
Где ива вдовий свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник
Свистал он на семи дубах.
Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?
Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.
Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.
1953
Лето в городе
Разговоры вполголоса
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка.
Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.
А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.
Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
На окне занавеска.
Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят.
А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,
Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие,
Неотцветшие липы.
1953
Ветер
Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.
1953
Хмель
Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.
Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелем.
1953
Бессонница
Который час? Темно. Наверно, третий.
Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.
Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете.
Потянет холодом в окно,
Которое во двор обращено.
А я один.
Неправда, ты
Всей белизны своей сквозной волной
Со мной.
1953
Под открытым небом
Вытянись вся в длину,
Во весь рост
На полевом стану
В обществе звезд.
Незыблем их порядок.
Извечен ход времен.
Да будет так же сладок
И нерушим твой сон.
Мирами правит жалость,
Любовью внушена
Вселенной небывалость
И жизни новизна.
У женщины в ладони,
У девушки в горсти
Рождений и агоний
Начала и пути.
1953
В двух последних стихотворениях, которые потом не были включены в окончательный текст романа «Доктор Живаго», чувствуется потаенная радость возвращения Ольги Ивинской и воспоминания о былых встречах с ней. Она была освобождена весною, но счастье встречи не могло заглушить в ней ужас того, что ей пришлось пережить.
* * *«…Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекратилось вседневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются…»
Борис Пастернак – Ольге Фрейденберг.
Из письма 3 декабря 1953
Они виделись изредка, Пастернак по-прежнему поддерживал материально ее и детей, помогал ей доставать переводную работу, которая дала возможность вскоре получить ей прописку в Москве. В апреле 1954 года он пригласил ее на чтение своего перевода «Фауста» в Союз писателей. Это было ее первое появление на публике.
Пастернак читал отрывки своего перевода, попутно комментируя их соответствующими соображениями. В сцене «Маргарита в тюрьме» он не мог сдержать слез.
* * *«…Председательствовал М.М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, Мика Морозов. Пастернак читал сидя…
Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.
Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор,
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?
Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.
По мере того как читал он, все более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры… Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель…
Вы воскресили прошлого картины
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех дней и жаждою добра…
Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.
И я прикован силой небывалой
К тем образам, нахлынувшим извне.
Эоловою арфой прорыдало
Начало строф, родившихся вчерне.
Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» – не для заработка же одного он переводил и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить…»
Андрей Вознесенский.
«Мне четырнадцать лет…»
Прежние отношения с О.В. Ивинской не возобновлялись, Пастернак не хотел возвращаться к прошлому, мучительно им прерванному в свое время, но чувствовал неоплатный долг совести перед нею, перенесшей нечеловеческие страдания тюрьмы и лагерей.
* * *«…В послевоенные годы я познакомился с молодой женщиной Ольгой Всеволодовной Ивинской, но не вынеся душевной раздвоенности и тихого, покорного горя своей жены, я должен был пожертвовать своей новой близостью и с болью разорвал свои отношения с О.В. Вскоре она была арестована и приговорена к пяти годам тюрьмы и концентрационных лагерей. Ее арестовали, как человека, близкого мне, с точки зрения тайной полиции, чтобы угрозами и мучительными допросами добиться показаний на меня, чтобы потом можно было осудить меня и погубить. Я обязан жизнью ее мужеству и выдержке».
Борис Пастернак – Ренате Швайцер.
Из письма 7 мая 1958 (Перевод с немецкого)
Только к концу 1954 года снова возобновились поначалу редкие свидания Пастернака с Ольгой Ивинской, слезы Зинаиды Николаевны, угрызения совести и чувство вины перед сыном. Летом 1955 года Ольга Ивинская сняла комнату в деревне, соседней с Переделкиным. Постепенно она взяла на себя издательские дела Пастернака, разговоры с редакторами, контроль за выплатой денег, что освобождало его от утомительных поездок в город.