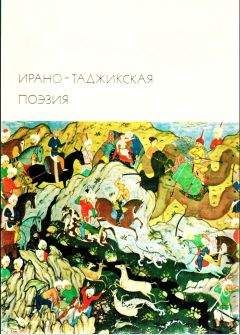Омар Хайям - Родник жемчужин: Персидско-таджикская классическая поэзия
Ответное письмо Меджнуна
Вступление к письму, его начало
Благоговейным гимном прозвучало
Во имя вседержителя-творца,
Кто движет все светила и сердца,
Кто никогда пи с кем не будет равным,
Кто в скрытом прозревает, как и в явном,
Кто гонит тьму и раздувает свет,
Кто блеском одевает самоцвет,
Кто утолил любую страсть и жажду,
Кем укреплен нуждающийся каждый.
Затем писал он о любви своей,
О вечном пламени в крови своей:
«Пишу я, обреченный на лишен ья,
Тебе, всех дел и дум моих решенье.
Нет! Я ошибся. Я, чья кровь кипит, –
Тебе, чья кровь младенческая спит.
У ног твоих простерт я безнадежно.
А ты другого обнимаешь нежно.
Не жалуясь, переношу я боль,
Чтоб облегчала ты чужую боль.
Твоя краса – моей мольбы Кааба.
Твоих шатров завеса – сень михраба.
Моя болезнь, ты также и бальзам,
Хрустальный кубок всем моим слезам.
Сокровище в руке чужой и вражьей,
А предо мной одна змея на страже.
О сад Ирема, где иссох ручей!
О рай, незримый ни для чьих очей!
Ключи от подземелья – у тебя.
Мое хмельное зелье – у тебя.
Так приголубь, незримая! Я прах.
Темницу озари мою! Я прах.
Ты, скрывшаяся под крылом другого,
По доброй воле шла на подлый сговор.
Где искренность, где ранний твой обет? –
Он там, где свиток всех обид и бед.
Нет между нами лада двух созвучий.
Но есть клеймо моей неволи жгучей.
Нет равенства меж нами – рабство лишь.
Так другу ты существовать велишь.
Когда же, наконец, скажи когда
Меж нами рухнут стены лжи, когда?
Луна, терзаемая беззаконно,
Избегнет лютой ярости дракона?
И узница забудет мрак темницы,
И сторож будет сброшен с той бойницы?
Но нет! Пускай я сломан пополам!
Пускай пребудет в здравьи Ибн-Селам!
Пускай он щедрый, добрый и речистый.
Но в раковине спрятан жемчуг чистый.
Но завитки кудрей твоих – кольцо,
Навек заколдовавшее лицо.
Но, глаз твоих не повидав ни разу,
Я все-таки храню тебя от сглаза.
Но если мошка над тобой кружит,
Мне кажется, что коршун злой кружит.
Я – одержимость, что тебе не снилась.
Я – смута, что тебе не разъяснилась.
Я – сущность, разобщенная с тобой,
Самозабвенье выси голубой.
А та любовь, что сделана иначе,
Дешевле стоит при любой удаче.
Любовь моя – погибнуть от любви,
Пылать в огне, в запекшейся крови.
Бальзама нет для моего леченья.
Но ты жива – и, значит, нет мученья».
Свидание с матерью
Лишь издали на сына поглядела,
Лишь поняла, как страшен облик тела.
Как замутилось зеркало чела, –
Вонзилась в мать алмазная стрела.
И ноги онемели на мгновенье.
Но вот уже она в самозабвеньи
Омыла сына влагой жгучих слез,
Расчесывает дикий ад волос.
И каждый волосок его голубя,
Ощупывает ссадины и струпья,
Стирает пыль и пот с его лица
И гладит вновь, ласкает без конца.
Из бедных ног колючки вынимая
И без конца страдальца обнимая,
Мать шепчет: «Мой сынок, зачем же ты
Бежишь от жизни для пустой мечты?
Уже числа нет нашим смертным ранам,
А ты все в том же опьянеиьи странном.
Уже уснул в сырой земле отец,
Уже не за горами мой конец.
Встань и пойдем домой, пока не поздно!
И птицы на ночь прилетают в гнезда.
И звери на ночь приползают в дом.
А ты, бессонный, в рубище худом,
В ущельи диком, в логове змеином,
Считаешь жизнь, наверно, веком длинным,-
А между тем она короче дня.
Встань, успокойся, выслушай меня!
Не камень сердце. Не железо тело.
Вот все, что я сказать тебе хотела».
Меджнун взвился, как огненный язык.
– Мать! Я от трезвых доводов отвык!
Поверь, что не виновен я нисколько
Ни в участи своей, ни в жизни горькой.
Не приведут усилья ни к чему.
Я сам себя швырнул навеки в тьму.
Я так люблю, что не бегу от боли,
Взял эту ношу не по доброй воле.
Но эту птицу, – вольную, ничью, –
Из клетки я освободить хочу.
А ты мне предлагаешь строить клетку,
Иначе говоря – удвоить клетку.
Не приглашай же впредь меня домой.
Заманят умереть меня домой.
Оставь меня. Не заклинай. Не трогай.
Прости за все. Иди своей дорогой. –
И, лобызая пыль ее следа,
Он с матерью простился навсегда.
О жизнь – игрок, клятвопреступник вечный!
Едва зажжен светильник быстротечный
И синий дым взошел на краткий срок, –
И вот уже колеблет ветерок
Безропотное трепетное пламя.
Так, управляя нашими делами,
Играет небо пламенем души.
Остерегись же, смертный! Не спеши
Рубить узлы, которыми ты связан,
Губить любовь, которой всем обязан!
О том, как наступила осень
и умирала Лейли
Так повелось, что если болен сад,-
Кровавых листьев слезы моросят.
Как будто веток зрелое здоровье
Подорвано и истекает кровью.
Прохладна фляга скованной воды.
Желты лицом, осунулись сады,
А может быть, на них совсем лица нот.
Лист в золоте, но скоро пеплом станет.
Цветы пожитки чахлые свернули,
В кочевье караваном потянули.
А там, под ветром, на дороге той
Пыль завилась, как локон золотой.
Простим сады за то, что в опасеньи
Осенней стужи, гибели осенней
Бросают за борт кладь былой весны.
Изнеженные, как они больны!
Пьянеют лозы в сладостном веселыг.
Садовник их срезает, чтоб висели,
Как головы казненных удальцов
На частоколе башенных зубцов.
И яблоко, вниз головой вися,
Кричит гранату: «Что, не сорвался!»
Гранат, как печень треснувшая, страшен.
Он источает сок кровавых брашен.
Так осенью израненный цветник
На бранном поле замертво поник.
Лейли с престола юности цветущей
Сошла в темницу немощи гнетущей.
Кто сглазил молодой ее расцвет?
Кто погасил ее лампады свет?
Повязку золотую головную
Зачем Лейли сменила на иную?
И тело, в лен сквозной облачено,
Зачем само сквозит, как полотно?
Жар лихорадки тело разрушает,
Сыпь лихорадки тело украшает.
Лейли открыла матери, как друг,
Смертельный свой и тайный свой недуг.
«О мать! Что делать? Смертный час объявлен,
Ягненок лани молоком отравлен.
В кочевье тянет караван души.
Не упрекай за слабость, не греши.
Моя любовь? – нет, кровь на черной ране.
Моя судьба? – не жизнь, а умиранье.
Немая тайна так была нема,
И вот печаль достигла уст сама.
И так как с уст уже душа слетает,
Пускай тихонько, медленно растает
Завеса тайны. Если ты стара,
Прости мне, мать! А мне и в путь пора.
Еще раз обними меня за плечи.
Прости, прощай! А мне пора далече.
Вручаю небу душу оттого,
Что друга не встречала своего.
Сурьмой мне станет пыль его дороги,
Моим индиго – плач его тревоги,
Моим бальзамом – слез его бальзам.
О, только бы он волю дал слезам!
И я вздохну тогда-еще раз тайно
Над ним в благоуханьи розы чайной
И камфары. А ты мне саван дай,
Как для шахида, кровью пропитай
Льняной покров. Пускай не траур мрачный
Тот будет день, а праздник новобрачной.
Пускай невестой, не прервавшей сна,
Навек земле я буду предана.
Когда дойдут к скитальцу злые вести,
Что суждено скитанье и невесте,
Я знаю – он придет сюда рыдать,
Носилки с милым прахом увидать.
Он припадет в тоске к их изголовью.
Над горстью праха, что звалась любовью,
Сам бедный прах, он страшно завопит*
Из состраданья к той, что сладко спит.
Он друг, он удивительно мне дорог.
Люби его без всяких отговорок,
Как можно лучше, мать, его прими,
Косым, враждебным взглядом не томи,
Найди в бездомном нищем человеке
То сердце, что теряешь ты навеки,
И эту повесть расскажи ему, –
Твоя Лейли ушла скитаться в тьму.
Там под землей, под этим низким кровом
Полны тобой опять ее мечты.
На переправе, на мосту суровом
Она высматривает, где же ты?
И оборачивается в рыданьи,
И ждет тебя, и ждет тебя она.
Освободи ее от ожиданья
В объятьях с ней, в сокровищнице сна».
Сказавши все и кончив эту повесть,
Лейли рыдала, в дальний путь готовясь.
И с именем любимым на устах
Скончалась быстро, господу представ.
Мать на нее как всмотрится, как взглянет,
Ей кажется, что Страшный суд нагрянет.
Срывала с головы седой чадру
И растрепала кудри на. ветру.
Вопила, чтобы смерть переупрямить,
Все причитанья, что пришли на память.
По-старчески, склонившись к молодой,
Ее кропила мертвою водой.
Лежало тело дочери в бальзаме
Живой любви, омытое слезами.
И стон такой последний раздался,
Как будто то стонали небеса.
Старуха же в отчаяньи великом
Над камнем мертвой крови, сердоликом,
Все сделала, что приказала дочь,
И, проводив ее навеки в ночь,
Не жаловалась больше на кончину.
Не ужаснулась, что ушла из глаз
Жемчужина в родимую пучину.
О жемчуге забота улеглась.
Плач Меджнуна о смерти Лейли