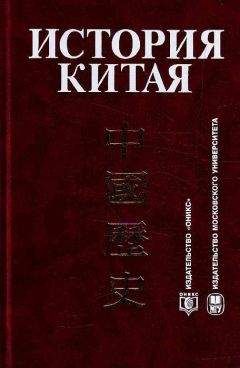Николай Алл - Русская поэзия Китая: Антология
ПЕКИН
В колеснице моей лечу
над землей на четыре «чи»,
и закутан я не в парчу,
а в одежду из чесучи.
Вновь Наньчицза передо мной:
это улица или лес?
Столько вязов над головой
в непроглядный срослось навес!
Ночь, весна. От земли тепло.
Эта улица — «чжи жу фа»:
выпевается набело
поэтическая строфа.
Чесучи своей не помни,
возвращенец издалека:
помни — крылья только одни
на бесчисленные века.
А теперь колесницу сна
задержи, ночной пилигрим:
это свет из того окна,
что когда-то было твоим.
ИЗГОЙ
Изгнанником, бродягой, чужаком
Я прошагал по рытвинам и шпалам,
Но с верностью, хотя бы только в малом,
И с Пушкиным, читаемым тайком.
Останься же, Россия, родником,
Не слившимся с разливом небывалым,
И шелести — в обиду карнавалам —
Мне на ухо запретным шепотком!
Китай — любовь, Бразилия — свобода,
А только я не видел ледохода,
И соловей не пел в моем саду.
Я сыт, одет. И все же нет желанья
На жимолость, рябину, лебеду
Наклеивать латинские названья!
ТРИ РОДИНЫ
Родился я у быстроводной
неукротимой Ангары
в июле — месяц нехолодный,
но не запомнил я жары.
Со мной недолго дочь Байкала
резвилась, будто со щенком:
сначала грубо приласкала,
потом отбросила пинком.
И я, долгот не различая,
но зоркий к яркости обнов,
упал в страну шелков, и чая,
и лотосов, и вееров.
Плененный речью односложной
(Не так ли ангелы в раю?..),
любовью полюбил несложной
вторую родину мою.
Казалось бы, судьба простая:
то упоенье, то беда,
но был я прогнан из Китая,
как из России, — навсегда.
Опять изгой, опять опальный,
я отдаю остаток дней
Бразилии провинциальной,
последней родине моей.
Здесь воздух густ, почти телесен,
и в нем, врастая в колдовство,
замрут обрывки давних песен,
не значащие ничего.
В РАЗЛУКЕ
И-е-санъ-цю — одна ночь (в разлуке тянется,
как) три осени. Китайская поговорка.
В конце сонета перевертываю ее:
«Три осени (пролетают, как) одна ночь»
И-е-сань-цю. Одна лишь ночь в разлуке —
Три осени. Их длительность равна.
Так для чего затейница весна
Подснежники мне всовывает в руки?
Не отпущу я сердца на поруки,
Пусть мается и стонет дотемна:
Сквозь лепестки мне изморозь видна,
И гам дроздов не разгоняет скуки.
Но разве ночь — одна? Скажи честней,
Что каждая — по девяносто дней.
Но встретимся — и боль переоценим:
Мы плакали — слагалось житие.
Но вечностям положено осенним,
Как та же ночь, мелькать. Сань-цю-и-е.
НИКОЛАЙ ПЕТЕРЕЦ
«Нет, не Москва, где каждый палисадник…»
Нет, не Москва, где каждый палисадник,
Где каждый двор — в миниатюре — Русь,
Преодолеть мне помогает грусть
О Родине, а устремленный всадник,
Воспетый Пушкиным. На вздыбленном коне
Он по сей час и грозен, и победен…
О, чары мастерства, что дали волю меди,
Возможные в искусстве и во сне.
Пусть конь храпит на твердом пьедестале
И борется с желаньем ездока —
Его простертая вперед рука
Зовет Россию к неизвестной дали.
Ты чужд теперь нахмуренной толпе,
Взнесенный в ночь, грозящий мраку рыцарь,
Как в символе мистически таится
Российская империя в тебе,
Чтоб вновь восстать нерукотворным чудом
Среди снегов и каменных громад,
Затем, что Русь не отойдет назад,
А, как река, осилит все запруды.
ДОСТОЕВСКИЙ
Как черновик, день скомкан и отброшен.
Туман густеет над ночной Невой,
И Достоевский, словно гость непрошенный,
По комнате шагает — сам не свой.
Бормочет. Злобствует: «Не жизнь, а крошево,
Так трудно жить по-божьи, по-хорошему
Средь этой сутолоки деловой!
О век рассудка! Век безличной массы!
И человек, как бес — во всем черта:
Ведь мастер бес и шкодить и замазывать,
И ненавистна бесу широта.
Не пишется… Забыты „Карамазовы“,
Ведь некому и не о чем рассказывать.
Нет образов, одна лишь пустота.
Зачем писать? Не восстановишь лада
В раздробленной душе, в больном мозгу!
С надрывом, с похотливою усладою.
Писать? Для Бога? Для России? Надо ли?
Я отдал все… Я больше не могу!» —
Душа тоскует старым Мармеладовым
И пьяницей замерзнет на снегу.
Томит тоска, набухнувшая тучею.
И одиночество. И боль. И мгла.
Бороться ли с бедою неминучей?
Вот молния сверкнула, обожгла,
И сотрясла, и выгнула падучая:
На дыбе так подергивают, мучая,
Истерзанные пыткою тела,
Чтоб правду выведать…
КАРУСЕЛЬ
Лучами блещущий апрель.
Восторженная детвора,
Кружась, задорно пьет с утра
Весенний карусельный хмель
На скопленные пятаки…
Но мне не выветрить тоски,
И отложить свирель пора.
Вот потный фат — жужжащий шмель
Завел иную карусель:
«Лишь потемнеет… Бросьте страх», —
Скулит, глядит в ее зрачки,
Прося пожатия руки,
И, злобно грезя наяву,
Я вижу это rendez-vous.
Насупленная темнота
Охватывает карусель.
Провинциальный «Бо Брюммель»,
Презрительно кривя уста,
Сам превзойти себя готов,
Скрывая в блестках пустяков
Давно намеченную цель…
Завязка мелочно проста,
Глупа, обыденна, пуста.
Но свет на девичьем лице
Чуть запрокинутом, таков,
Что даже отблеск облаков,
Замкнувших месяц в легкий круг,
В сравненьи с ним тяжел и груб.
Так завертись же, карусель, —
Как смерч,
как смерть,
как жизнь сама!
Пусть девушка сойдет с ума
В твоем взбешенном колесе,
Не зная злобы площадной,
Не зная подлости земной,
Пройдет мечтою синема
Сквозь эту пыль, сквозь эту цвель
Такой же легкой, как досель,
Не заблудившейся впотьмах:
Пусть жизнь закончится весной,
Хотя бы только для одной;
Пусть хоть одну безумный лёт
На небо прямо вознесет.
«Из детских снов…»
Из детских снов…
Открытый люк,
Охваченный огнем и дымом,
И птицы Рок огромный клюв,
Пылающий неутомимо,
Меня — в зев огненный. И крик…
Сердитый голос сонный няни:
«Чур-чур тебя! Не присмотри,
Так снова бес к нему пристанет!»
Из жизни…
Острый клюв и люк,
Огонь и рок — увы, не птица —
В твоем коротком «не люблю»,
В надменно вскинутых ресницах.
Разлуки мне известен чин…
«В любви никто не волен. Что же?»
Попытка сердце залечить,
А может быть, и уничтожить.
Ведь не уйти ему от чар,
И ты не будешь позабыта,
Пока земля — летящий шар —
Не изменит своей орбиты.
«Третий том Александра Блока…»