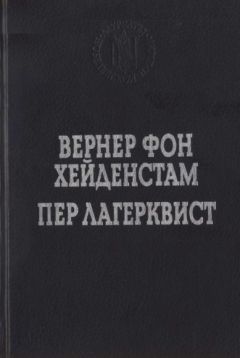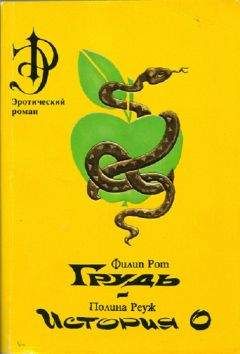Пер Лагерквист - Улыбка вечности. Стихотворения, повести, роман
Все эти бездомные ночуют прямо на улице, и теперь, когда наступила зима, и зима необычайно суровая, им, должно быть, не слишком тепло без настоящей-то одежды. Некоторых, говорят, находят утром замерзшими: лежит такой узел тряпья и не встает, как другие, а когда посмотрят, — уже никаких признаков жизни. Но погибают они, наверное, скорее от голода, чем от холода, и всегда это только старики, и без того уже бессильные и с остывшей кровью. И пусть себе умирают, они ведь только в тягость другим, а в городе и без них слишком много народу.
Наемники Боккароссы ни в чем не терпят недостатка. В их распоряжении вся страна, грабь сколько хочешь, и они так и делают, продвигаясь все дальше и дальше вглубь и обеспечивая себя всем необходимым. Разграбленные села они потом сжигают, и часто по ночам можно видеть в небе далекие зарева пожаров. Все окрестности они давно уже разграбили и разорили.
Но как ни странно, штурма города они пока не предпринимают. Меня это удивляет, ведь взять его сейчас было бы, разумеется, проще простого. Быть может, они считают, что меньше хлопот взять его измором, и при том, что могут грабить страну сколько угодно, готовы ждать.
Анджелика только и знает, что бездельничать. Прежде она занималась хоть своим рукоделием. Чуть ли не все время она проводит у реки, сидит там и кормит лебедей или же просто смотрит на бегущую мимо воду. Иногда она сидит вечер напролет у своего окна, глядя на сторожевые костры и палатки врага далеко внизу и на расстилающуюся за ними выжженную равнину. Все думает, наверное, о своем принце.
Удивительно, что за глупый вид у людей, когда они влюблены, а особенно когда влюблены безнадежно. Выражение лица у них тогда на редкость тупое, и я не понимаю, как можно утверждать, будто любовь делает человека красивее. Глаза у нее, если это только возможно, еще глупее и невыразительнее, чем прежде, а щеки бледные, не то что на пиру. Но рот стал словно бы больше, и губы словно припухли, и видно, что она уже не ребенок.
Я, кажется, единственный, кто знает ее преступную тайну.
К моему удивлению, герцогиня спросила меня сегодня, не думаю ли я, что Христос ее ненавидит. Я, естественно, ответил, что мне про то неизвестно. Она посмотрела на меня своим лихорадочно горящим взглядом, чем-то, казалось, взволнованная. Ну как же, конечно, должно быть, ненавидит, раз не дает ей ни минуты покоя. Он и должен ее ненавидеть за все ее грехи. Я сказал, что его вполне можно понять. Ее словно бы утешило, что я того же мнения, что и она, и, глубоко вздыхая, она опустилась на стул. Дальше мне тут оставаться было ни к чему, поскольку поручений у нее ко мне, как обычно, не оказалось. Когда я спросил, могу ли я идти, она ответила, что не в ее власти мной распоряжаться, но смотрела при этом умоляюще, словно ждала от меня какой-то помощи. Я, однако, чувствовал себя ужасно неловко и предпочел уйти, а обернувшись в дверях, увидел, как она бросилась на колени перед распятием и в отчаянии стала бормотать молитвы, судорожно перебирая худыми пальцами четки.
Все это произвело на меня очень странное впечатление.
Что случилось со старой дурой?
Без сомнения, она вполне серьезно думает, что Христос ее ненавидит. Сегодня она опять к этому вернулась. Все ее молитвы ни к чему, сказала она. Он ее все равно не прощает. Он ее просто не слышит и ничем даже не показывает, что вообще замечает ее существование, разве лишь тем, что не дает ей ни минуты покоя. Это ужасно, она этого не вынесет. Я сказал, что, по-моему, ей следует обратиться к своему духовнику, который всегда выказывал самое горячее сочувствие к ее духовным нуждам. Она покачала головой — она уже пробовала, но он ничем не мог ей помочь. Он даже и не понял. Он считает, что она безгрешна. Я язвительно усмехнулся этому высказыванию льстивого монаха. Тогда она спросила, интересно, а какого я сам о ней мнения. Я сказал, что считаю ее грешной женщиной и уверен, что ей суждено вечно гореть в адском пламени. Тут она бросилась передо мной на колени и стала ломать себе пальцы, так что суставы побелели, она вопила, и причитала, и молила спасти и помиловать ее, несчастную. Но я спокойно смотрел, как она корчится у моих ног. Во-первых, я не имел средства ей помочь, а во-вторых, я считал, что мучится она заслуженно. Она схватила мою руку и омочила ее слезами, попыталась даже поцеловать, но я отдернул руку и не позволил ей ничего такого. Тут она стала еще громче вопить и причитать и довела себя до самой настоящей истерики. «Исповедуйся в своих грехах!» — сказал я и сам почувствовал, что лицо у меня сделалось очень строгое. И она начала исповедоваться во всех своих преступлениях, в своей развратной жизни, в своих недозволенных связях с мужчинами, в объятия которых ее толкал сам дьявол, и в том наслаждении, которое испытывала, окончательно запутавшись в его сетях. Я заставил ее подробнее описать сам грех, в который она впала, и то чудовищное наслаждение, которое она при этом получала, и назвать имена тех, с кем состояла в преступной связи. Она покорно исполнила все, что я ей велел, и передо мной возникла кошмарная картина ее постыдной жизни. Однако она ни словом не упомянула про дона Риккардо, что я ей и заметил. Она недоумевающе посмотрела на меня и, казалось, никак не могла уразуметь, чего я от нее хочу. При чем тут дон Риккардо? Разве это тоже грех? Я объяснил ей, что это тягчайший из всех ее грехов. Она, казалось, никак не могла себе этого уяснить и смотрела на меня удивленно и даже с сомнением, но потом все же задумалась над тем, что я сказал, над этой не приходившей ей, видно, в голову мыслью, и, задумавшись, очевидно, испугалась. Я спросил, разве она не любила его больше всех? «Да», — ответила она шепотом, еле слышно, и тут же снова принялась плакать, но уже не так, как прежде, а как обычно люди плачут. Она никак не могла перестать, и мне в конце концов надоело, и я сказал, что мне пора идти. Она умоляюще и беспомощно посмотрела на меня и спросила, не могу ли я ее чем-нибудь утешить. Что ей сделать, чтобы Господь смилостивился над ней? Я ответил, что неслыханная дерзость с ее стороны просить о милости господней, у нее столько грехов, что вполне естественно, если Искупитель не слышит ее молитв. Он не для того был распят, чтобы искупать грехи таких грешниц, как она. Она безропотно меня выслушала и сказала, что она и сама точно так же чувствует. Она недостойна быть услышанной. Она всегда это чувствовала в глубине души, когда молилась на коленях перед изображением Распятого. Вздыхая, но все же немного утешенная, она уселась на стул и начала говорить о себе как о величайшей на свете грешнице, самой падшей из людей, и жаловалась, что никогда ей не вкусить небесной благодати. «Я много любила, — сказала она. — Но Бога и его сына я не любила, и потому только справедливо, что я так наказана».
Потом она поблагодарила меня за то, что я был добр к ней. Ей стало легче, когда она исповедалась, хоть она и сама прекрасно понимает, что отпущения грехов ей не получить. И сегодня она в первый раз смогла поплакать.
Я ушел, а она осталась там сидеть — согбенная старуха с покрасневшими глазами и волосами сбившимися и спутанными, как старое сорочье гнездо.
Герцог и Фьяметта много времени проводят вместе. Они часто остаются посидеть вдвоем после вечерней трапезы, и я тоже остаюсь, чтобы прислуживать им. С герцогиней они тоже иногда так сидели по вечерам, но очень редко. Фьяметта — женщина совсем иного типа, холодная, сдержанная, неприступная и настоящая красавица. Ее смуглое лицо жестче любого виденного мною женского лица и, не будь оно так красиво, могло бы показаться лишенным всякой привлекательности. Взгляд угольно-черных глаз, с этой их единственной искоркой в глубине, покоряет и завораживает.
Я предполагаю, что она и в любви холодна, и не столько отдает, сколько берет, и от того, кого снисходит полюбить, требует полнейшего подчинения. Герцогу это, кажется, нравится, нравится покоряться. Холодность в любви, возможно, ценится не меньше, чем страстность, откуда мне знать.
Лично я ничего против нее не имею. Зато все другие имеют. Слуги для нее пустое место, а они, по их словам, к такому не привыкли, тем более что она им никакая не хозяйка, а всего лишь герцогская наложница. Но других придворных дам она, видите ли, уже не считает себе ровней — я-то думаю, что она и раньше не считала, да и считала ли вообще когда-нибудь кого-нибудь ровней себе? Однако в ней это не кажется просто спесью, скорее это врожденная гордость. Они, разумеется, бесятся. Но виду показать не смеют, предполагая, что она может занять место герцогини, если, конечно, госпожа вдруг снова не вернет его себе.
Весь двор говорит, что она позволила себя «соблазнить» из одного лишь тщеславия, и что кровь у нее рыбья, и что это безнравственно. Я не понимаю, что они имеют в виду, ведь в отличие от всех прочих, кто пускается в подобные бесстыдства, она вовсе не производит впечатления безнравственной.