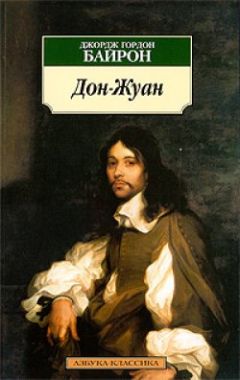Джордж Байрон - Дон Жуан
ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ
1О Веллингтон (иль Villainton[47] — зовет
Тебя и так двусмысленная слава;
Не победив тебя, не признает
Величья твоего француз лукавый
И, побежденный, каламбуром бьет)!
Хвала! На пенсию обрел ты право.
Кто смеет славы не признать твоей?
Восстанут все и завопят о Ней.
Неладно ты с Киннердом поступил
В процессе Марине — скажу открыто,
Такой поступок я б не поместил
На славные вестминстерские плиты.
Все остальное мир тебе простил,
И нами эти сплетни позабыты:
Хоть как мужчина ты и стал нулем,
«Героем юным» мы тебя зовем.
Мы знаем, после славного похода
Тебе даров немало принесли
За то, что, Реставрации в угоду,
Ты спас легитимизма костыли.
Испанцам и французскому народу
Они прийтись по сердцу не могли,
Но Ватерлоо заслуженно воспето,
Хоть не дается бардам тема эта.
Но, что ни говори, война — разбой,
Когда священных прав не защищает.
Конечно, ты — «головорез лихой»;
Так сам Шекспир подобных называет;
Но точно ль благороден подвиг твой
Народ, а не тираны, пусть решает.
А им — то лишь одним и повезло:
Им и тебе на пользу Ватерлоо.
Но я не льщу, ведь лестью ты упитан!
Устав от грома битвы, так сказать,
Герой, когда имеет аппетит он,
Скорее оды предпочтет глотать,
Чем острые сатиры. Все простит он
Тем, кто его способен называть
«Спасителем» народов — не спасенных,
И «провиденьем» — стран порабощенных.
Иди к столу! Я все сказал, поверь!
Но вспомни, как наешься до отвала,
Солдату, охраняющему дверь,
Чего-нибудь послать бы не мешало:
Он тоже ведь сражался, а теперь
Его уже не кормят, как бывало
Никто не отнимает благ твоих,
Но что-нибудь оставь и для других.
Я не хочу вдаваться в рассужденья,
Ведь ты велик, ты выше эпиграмм!
Был в Риме Цинциннат, но отношенья
Он никакого не имеет к нам.
Ты, как ирландец, любишь, без сомненья,
Картофель, но его не садишь сам;
Сабинская же ферма, к сожалению,
Народу обошлась в мильон, не менее.
Великие к наградам безучастны:
Эпаминонд, освободитель Фив,
Скончался — это знаем мы прекрасно,
На похороны денег не скопив…
И Вашингтона славят не напрасно!
Великий Питт был с нацией учтив
(Что патриоту каждому любезно)
И разорял отчизну безвозмездно.
Ей-богу, даже сам Наполеон,
Пожалуй, не имел такого случая
Спасти от кучки деспотов закон,
В Европе утвердить благополучие.
А вышло что? Победы шум и звон
И пышных славословий благозвучие
Стихают, а за ними все слышней
Проклятья нишей родины твоей!
Но муза неподкупна и вольна,
Она с газетой дружбы не водила:
Поведает истории она,
Как пировали жирные кутилы,
Как их пиры голодная страна
И кровью и деньгами оплатила.
Ты многое для вечности свершил,
Но ты о чело-вечности забыл.
Смеется смерть — костлявый силуэт,
Небытия неведомая сила.
Воскреснет ли весны и солнца свет
Из темноты загадочной могилы?
Смеется смерть… И ей заботы нет.
Кому она страданья причинила
Ужасен символ тайны и конца
Безгубый смех безглазого лица!
Не то чтобы улыбка до ушей,
А все — таки улыбка остается;
Без губ и без ушей она страшней:
Не слышит шут, а все — таки смеется
Над миром и над сущностью вещей;
Наверно знает он, что доберется
До каждого и что ему в ответ
Осклабится ободранный скелет.
Смеется смерть. Печально созерцать
Веселье устрашающее это;
Но почему б и жизни не плясать,
Не радоваться солнечному свету
И пузырьками пены не мелькать?
Ведь все равно системы и планеты,
Века, мгновенья, атомы, миры
Исчезнут в смене огненной игры.
«Быть иль не быть, — сказал Шекспир, — таков
Вопрос», — а этот автор нынче в моде.
Но я не Александр, и гордый зов
Бесплодной славы чужд мне по природе.
Я Бонапарта уважать готов,
Но рак его на память мне приходит,
И я словам абстрактным «власть» и «честь»
Готов пищеваренье предпочесть.
«O! dura ilia messorumi»[48] — или:
«Блажен желудок пахаря!» И тот,
Кого катары злые истомили,
Такое чувство зависти поймет;
Не утешает пышность изобилий,
Когда у вас в кишечнике течет
Горячий Стикс! Спокойствие желудка
Залог любви богов; сие не шутка.
«Быть иль не быть?» Но я хотел бы знать
В чем бытия неясное значенье?
Мы очень любим много рассуждать,
Мы видим очень многие явленья,
Но как себя всевидящим считать,
Когда не видишь мудрого решенья?
И жизнь и смерть в пределах бытия
Сплетенными всегда встречаю я.
«Que sais-je?»[49] — сказал задумчивый Монтень;
И он поддержан скептиками всеми:
На всем сомненья тягостная тень,
Любой вопрос приводит к этой теме.
Но как же нам — то быть? Предвижу день:
Настанет столь «сомнительное» время,
Когда в самом сомненье буду я
Иметь сомненье, милые друзья.
Приятно по теченью рассуждений
С Пирроном умозрительно скользить,
Но я боюсь опасных приключений
И не желаю в море уходить;
К тому же далеко не всякий гений
Умеет парус вовремя спустить.
Я тихий бережок предпочитаю,
Где отдохну я, камушки считая.
Припоминаю, Кассио сказал,
Что небо для молитвы всем открыто,
Но так как прародитель оплошал,
На мирозданье божество сердито.
«И воробей без промысла не пал»;
А чем же согрешили воробьи — то?
Уж не сидел ли первый воробей
На древе, где таился Евин змей?
О боги! Что такое теогония?
О люди! Что такое филантропия?
О вечность! Что такое космогония?
Мне, говорят, присуща мизантропия.
Но почему? Не знаем ничего ни я,
Ни этот стол; мне только ликантропия
Понятна: люди все по пустякам
Легко уподобляются волкам.
Но я ничуть не хуже и не злее,
Чем Меланхтон и даже Моисей,
Я обижать невинных не умею
По самой щепетильности своей;
Скажите мне, какого ж фарисея
Затронул я безвинно? Я — злодей?
Я — мизантроп? А злобные оравы,
Травившие меня, выходит, правы?
Но возвращусь к роману моему.
Роман хорош, я в этом убежден,
Хотя не посчастливилось ему
Быть понятым, как был задуман он.
Не скоро миру явится всему
Свет истины. Пока я принужден
Смириться, пребывая в ожиданье;
Я с Истиной делю почет изгнанья!
Вот наш герой, судьбой своей влеком,
В полярную столицу поспешает
К вельможам, пообтесанным Петром.
Теперь сия империя стяжает
Немало лести. Жаль признаться в том,
Но и Вольтер хвалой ее венчает
По мне же, самодержец автократ
Не варвар, но похуже во сто крат.
И вечно буду я войну вести
Словами — а случится, и делами!
С врагами мысли Мне не по пути
С тиранами Вражды святое пламя
Поддерживать я клялся и блюсти.
Кто победит, мы плохо знаем с вами,
Но весь остаток дней моих и сил
Я битве с деспотизмом посвятил.
Довольно демагогов без меня:
Я никогда не потакал народу,
Когда, вчерашних идолов кляня,
На новых он выдумывает моду.
Я варварство сегодняшнего дня
Не воспою временщику в угоду.
Мне хочется увидеть поскорей
Свободный мир — без черни и царей.
Но, к партиям отнюдь не примыкая,
Любую я рискую оскорбить.
Пусть так; я откровенно заявляю,
Что не намерен флюгером служить.
Кто действует открыто, не желая
Других вязать и сам закован быть,
Тот никогда в разгуле рабства диком
Не станет отвечать шакальим крикам.
Шакалы! Да! Я имя им нашел,
Поистине достойное названье;
Случалось мне у разоренных сел
Их мертвенное слышать завыванье.
Но всех, как наименьшее из зол,
Шакал еще достоин оправданья;
Шакалы служат льву, я видел сам,
А люди — угождают паукам.
О, только разорвите паутину
Без паутины их не страшен яд!
Сплотитесь все, чтоб устранить причины,
Которые тарантулов плодят!
Когда же рабски согнутые спины
Все нации расправить захотят?
Защите поучитесь героической
У шпанской мухи и пчелы аттической.
О результате славного похода
Царице Дон-Жуан депешу вез;
Убитых — как траву, а кровь — как воду,
Ей доблестный фельдмаршал преподнес.
Великое побоище народа
Екатерину заняло всерьез:
Она, следя за петушиной дракон,
Своим лишь восхищалась забиякой.
И вот в кибитке скачет мой герой.
Не пользуйтесь проклятой сей коляской,
Особенно осеннею порой!
Но, увлечен грядущего развязкой
И вымысла заманчивой игрой,
Он только сожалел, намучен тряской,
Что не крылаты лошади пока,
А на сиденье нет пуховика.
Боялся он, что тряска, непогода
Его Леиле могут повредить;
Подобных рытвин и ухабов сроду
Не видывал герой мой. Как тут быть?
Царила там любезная Природа,
Дороги не привыкшая мостить,
А так всегда с угодьями случается,
Которыми сам бог распоряжается.
Ведь бог, как всякий фермер — дворянин,
Аренды не платя, живет без дела;
Но в наши дни, по множеству причин,
Дворянское сословье оскудело,
И вряд ли фермер вылечит один
Цереры обессиленное тело:
Пал Бонапарте — волею судеб
Монархи падают с ценой на хлеб.
Итак, Жуан на пленницу глядел,
От всей души турчаночку жалея.
Кровавые холмы из мертвых тел
Я описать с восторгом не сумею;
Мне шах Надир давно осточертел!
Вы помните кровавого злодея:
Весь Индостан он думал покорить,
А не сумел обед переварить!
Как хорошо из черной бури боя
Созданье беззащитное спасти!
Такой поступок юному герою
Способен больше пользы принести,
Чем лавры с окровавленной листвою,
Воспетые кантатах в двадцати.
Когда сердца людей хранят молчанье,
Все клики славы — праздное бряцанье.
Поэты многотомно-многогласные,
Десятки, сотни, тысячи писак!
Вы ложью увлекаетесь опасною,
Вам платит власть, чтоб вы писали так!
То вы твердите с пылкостью напрасною.
Что все налоги подлинный пустяк,
То на мозоли лордов наступаете
И о «голодных массах» распеваете.
Поэты!.. Что бишь я хотел сказать
Поэтам? Не припомню, ей-же-богу.
Забывчивостью начал я страдать…
Хотелось мне лачуге и чертогу
Совет сугубо нужный преподать.
А впрочем, это лишняя тревога;
Особого убытка миру нет
В том, что пропал бесценный мой совет.
Когда-нибудь отыщется и он
Среди обломков рухнувшего зданья,
Когда, затоплен, взорван, опален,
Закончит старый мир существованье,
Вернувшись, после шумных похорон,
К первичному хаосу мирозданья,
К великому началу всех начал,
Как нам Кювье однажды обещал.
И новый мир появится на свет,
Рожденный на развалинах унылых,
А старого изломанный скелет,
Случайно сохранившийся в могилах,
Потомкам померещится, как бред
О мамонтах, крылатых крокодилах,
Титанах и гигантах всех пород.
Размером этак футов до двухсот.
Когда б Георг был выкопан Четвертый
Геологами будущей земли,
Дивились бы они — какого черта
И где такие чудища росли?
Ведь это будет мир второго сорта,
Мельчающий, затерянный в пыли.
Мы с вами все — ни более, ни менее
Как черви мирового разложения!
Каким же — я невольно повторяю
Покажется большой скелет такой,
Когда, вторично изгнанный из рая,
Пахать и прясть возьмется род людской?
О войнах и царях еще не зная,
Сочтет Георга разум их простой,
В явленьях разбираться не умея,
Чудовищем для нового музея.
Но я впадаю в тон метафизический:
Мир вывихнут, но вывихнут и я.
От темы безобидно — иронической
Уводит рассудительность моя
Бегите от стихии поэтической!
Всегда стремитесь, милые друзья,
Чтоб замысел был ясен, прост и верен,
А я менять привычки не намерен.
Я буду отвлекаться, так и быть…
Но в данный миг я возвращусь к роману.
Как сказано — во всю ямскую прыть
Неслась кибитка моего Жуана.
Но долгий путь вас может утомить,
И я его описывать не стану;
Я в Петербурге ждать его готов,
В столице ярко блещущих снегов.
Смотрите — в форме лучшего полка
Мой Дон-Жуан, Мундир суконный красный,
Сверкающий узор воротника.
Плюмаж — как парус, гордый и прекрасный,
Густые сливки тонкого чулка
И желтых панталон отлив атласный
Обтягивали пару стройных ног,
Какими Феб — и тот гордиться б мог!
Под мышкой — треуголка, сбоку — шпага,
Все, чем искусство, слава и портной
Украсить могут юную отвагу,
Цветущую здоровьем и весной,
Все было в нем. Не делая ни шагу,
Стоял он статуэткой расписной,
Как бог любви — ей-ей, не лицемерю я!
В мундире лейтенанта артиллерии.
Повязка спала с глаз его, колчан
И стрелы легкой шпагою сменились,
А крылышки — и это не изъян!
В густые эполеты превратились
Он был, как ангел, нежен и румян,
Но по-мужски глаза его светились.
Сама Психея, я уверен в том,
Признала б Купидона только в нем.
Застыли дамы, замерли вельможи — и
Царица улыбнулась Фаворит
Нахмурился: мол, новый — то моложе и
Меня без церемоний оттеснит!
Все эти парни рослые, пригожие,
Как патагонцы бравые на вид,
Имели много прибыли и… дела,
С тех пор как их царица овдовела.
Жуан не мог поспорить с ними в статности,
Но грация была ему дана,
Изящество лукавой деликатности;
Притом — была и к юношам нежна
Царица, не лишенная приятности:
Похоронила только что она
Любимца своего очередного,
Хорошенького мальчика Ланского.
Вполне понятно, что могли дрожать
Мамонов, Строганов и всякий «ов»,
Что в сердце, столь вместительном, опять
Найдет приют внезапная любовь,
А это не могло не повлиять
На выдачу чинов и орденов
Тому счастливцу, чье благополучие,
Как выражались, «находилось в случае».
Сударыни! Не пробуйте открыть
Значенье этой формулы туманной.
Вам Каслрей известен, может быть,
Он говорит косноязычно — странно
И может очень много говорить,
Все затемняя болтовней пространной.
Его — то метод подойдет как раз,
Чтоб этот термин ясен стал для вас!
О, это хитрый, страшный, хищный зверь,
Который любит сфинксом притворяться;
Его слова, невнятные теперь,
Его делами позже разъяснятся.
Свинцовый идол Каслрей! Поверь,
Тебя и ненавидят и боятся.
Но я для дам припомнил анекдот,
Его любая, думаю, поймет.
Однажды дочь Британии туманной
Просила итальянку рассказать
Обязанности касты очень странной
«Cavalier servente»? Как понять,
Что многим дамам кажется желанной
Судьба таким «слугою» обладать?
«Ищите, — та ответила в смущенье,
Ответ у своего воображенья!»
Вообразить сумеете и вы,
Что, будучи любимцами царицы,
Любимцами фортуны и молвы
Становятся означенные лица.
Но очень шаток этот пост, увы!
И стоит только снова появиться
Отменной паре крепких, сильных плеч,
Как этот пост уже не уберечь.
Мой Дон-Жуан был мальчик интересней
И сохранивший юношеский вид
В том возрасте, в котором, как известно,
Обильная растительность вредит
Красивости. Не зря Парис прелестный
Позором Менелая знаменит:
Не зря бракоразводные законы
Начало повели из Илиона!
Екатерина жаловала всех,
За исключеньем собственного мужа.
Она предпочитала для утех
Народ плечистый и довольно дюжий;
Но и Ланской имел у ней успех,
И милостями взыскан был не хуже,
И был оплакан — прочим не в пример,
Хотя сложеньем был не гренадер!
О ты, «teterima causa»[50] всяких «belli»,[51]
Судеб неизъяснимые врата!
Тобою открывается доселе
Небытия заветная черта!
О сущности «паденья» в самом деле
Мы до сих пор не знаем ни черта;
Но все паденья наши и паренья
Подчинены тебе со дня творенья.
Тебя считали худшей из причин
Раздоров и войны, но я упорно
Считаю лучшей, — путь у нас один
К тебе, стихия силы животворной;
Пускай тебе в угоду паладин
Опустошает землю — ты проворно
Ее целишь и населяешь вновь,
Богиня плоти, вечная Любовь!
Царица этой силой обладала
В избытке; и с умом и с мастерством
Она ее отлично применяла
В прославленном правлении своем.
Когда она Жуана увидала
Коленопреклоненного с письмом,
Она забыла даже на мгновенье,
Что это не письмо, а донесенье.
Но царственность ее превозмогла
Четыре пятых женского начала:
Она депешу все-таки взяла
И с милостивым видом прочитала.
Толста на первый взгляд она была,
Но благородной грацией сияла.
Вся свита настороженно ждала,
Пока ее улыбка расцвела.
Во-первых, ей весьма приятно было
Узнать, что враг разбит и город взят.
Хотя она на это уложила
Не тысячу, а тысячи солдат,
Но те, кому даются власть и сила,
О жертвах сокрушаться не хотят,
И кровь не насыщает их гордыню,
Как влага — Аравийскую пустыню.
Затем ее немного рассмешил
Чудак Суворов выходкой своею;
Развязно он в куплетец уложил
И славу, и убитых, и трофеи:
Но женским счастьем сердце озарил
Ей лейтенант, склоненный перед нею.
Ах! Для него забыть она б могла
Кровавой славы грозные дела!
Когда улыбкой первой озарились
Царицы благосклонные черты,
Придворные мгновенно оживились,
Как вспрыснутые дождиком цветы,
Когда же на Жуана обратились
Ее глаза с небесной высоты,
То все застыли в сладком ожидании,
Стараясь упредить ее желания.
Конечно, ожирения следы
Лицо ее приятное носило;
На зрелые и сочные плоды
Она в своем расцвете походила
Любовникам за нежные труды
Она не только золотом платила;
Амура векселя могла она
По всем статьям оплачивать сполна.
Награда за услугу и геройство
Приятна, но царица, говорят,
Имела столь пленительные свойства,
Что привлекать могла б и без наград!
Но царских спален таково устройство,
Что завсегдатая их всегда богат,
Она мужчин любила и ценила,
Хоть тысячи их в битвах уложила.
Вы говорите, что мужчина странен?
А женщина еще того странней:
Как легкий ум ее непостоянен!
Как много разных прихотей у ней!
Сегодня — взор слезою затуманен,
А завтра — зимней вьюги холодней
Чему тут верить? Чем вооружиться?
А главное — на что тут положиться?
Екатерина — ох! Царица — ах!
Великим междометья подобают:
В любви и в государственных делах
Они смятенье духа выражают,
Хоть было лестно ей узнать, что в прах
Повержен враг, что Измаил пылает,
Всему могла царица предпочесть
Того, кто ей доставил эту весть.
Шекспировский Меркурий опустился
«На грудь горы, лобзавшей облака»,
И мой герой Меркурием явился.
«Гора» была, конечно, высока,
Но лейтенант отважный не смутился;
Любая круча в юности легка,
Не разберешься в вихре нежной бури,
Где небо, где гора, а где Меркурий.
Вверх глянул он, вниз глянула она.
В нем каждое ей нравилось движенье.
Ведь сила Купидонова вина
Великое рождает опьяненье.
Глотками пей иль сразу все до дна
От этакого зелья нет спасенья:
Магическая сила милых глаз
Все, кроме слез, испепеляет в нас.
А он? Не знаю, полюбил ля он,
Но ощутил тревожную истому
И был, что называется, польщен.
Ведь многим страсть подобная знакома,
Когда талант бывает поощрен
Восторгами влиятельного дома
В лице красивой дамы средних лет,
Чье мненье уважает высший свет.
Притом и возраст был его такой,
В котором возраст женщин безразличен.
Как Даниил во львином рву, герой
В страстях и силе был неограничен
И утолять природный пламень свой
При всяких обстоятельствах привычен.
Так утоляет солнце страстный зной
В больших морях и в лужице любой.
Екатерина, следует сказать,
Хоть нравом и была непостоянна,
Любовников умела поднимать
Почти до императорского сана
Избранник августейший, так сказать,
Был только по обряду невенчанный
И, наслаждаясь жизнью без забот,
О жале забывал, вкушая мед.
Сюда прибавь изящные манеры,
Глаза, в которых разум отражен
Они, прошу прощенья, были серы,
Но этот цвет хорош, коль взор умен.
Тому великолепные примеры
Мария Стюарт и Наполеон,
Да и глаза Паллады непокорные
Никак не голубые и не черные.
Ее улыбка, плавность полноты
И царственная прихоть предпочтенья
Столь мужественным формам красоты
Каким не отказала б в иждивенье
И Мессалина, все ее черты,
Ее живое, сочное цветенье
Все это вместе, что и говорить,
Могло мальчишке голову вскружить.
А всякая любовь, как состоянье,
Тщеславна от начала до конца.
(Я исключаю случаи страданья,
Когда неукротимые сердца
Вдруг загорятся жаждой обладанья
От преходящей прелести лица,
За что философ — прочим в назиданье
Назвал любовь «пружиной мирозданья»).
Мы любим от мечтательной тоски
И платонически и как супруги
(Для рифмы говоря — «как голубки»:
Я знаю, смысл и рифма — не подруги,
И слишком часто смыслу вопреки
Рифмачества убогие потуги
В стихи вставляют слово… Как тут быть?),
Но я хочу о чувствах говорить!
Стремленье к совершенству познаем
Мы все в томленье плоти ежечасном,
В стремленье тела слиться с божеством,
Являющимся в облике прекрасном.
Блаженный миг! О, как его мы ждем
С волненьем лихорадочным и страстным,
А суть ведь в том, что это — путь прямой,
Чтоб бренной плотью дух облечь живой.
Я дорожу любовью платонической,
Ей первенство по праву надлежит;
Вторую я назвал бы «канонической»,
Поскольку церковь к ней благоволит;
Но третий вид — поистине классический
Во всем крещеном мире знаменит;
Сей вид союза можно без опаски
Назвать лукаво браком в полумаске.
Но полно, полно, ждет меня рассказ.
Царицыны любовь иль вожделенье
Жуану льстили. Странно — всякий раз,
Когда про эти думаю явленья,
Не замечает мой привычный глаз
Различья между ними; без сомненья,
Царица страстной женщиной была
И не скромней швеи себя вела…
Придворные шептались, — правда, чинно,
К ушам соседа приложив уста,
У фрейлин старых морщились морщины,
А юные, которых красота
Еще цвела, сочувственно-невинно
Смеялись меж собой. Но неспроста
Все гренадеры, первенцы удачи,
Молчали, от досады чуть не плача.
Лукавые заморские послы
Осведомлялись — кто сей отрок новый,
Который пробирается в орлы,
Которому уже почти готовы
И должности, и пышные хвалы,
И награждений дождь многорублевый,
И ордена, и ленты, и к тому ж
Дарения десятков тысяч душ!
Она была щедра; любовь такая
Всегда щедра! И, к сердцу путь открыв,
Она во всем счастливцу потакает,
Все прихоти его предупредив.
Хотя жена была она плохая,
Но, строго Клитемнестру осудив,
Скажу: не лучше ль одному скончаться,
Чем вечно двум в оковах оставаться?
Екатерина всем давала жить,
С ней нашу не сравнить Елизавету
Полуневинную; скупясь платить,
Всю жизнь скучала королева эта.
Избранника могла она казнить
И горевать о нем вдали от света…
Подобный метод флирта глуп и зол,
Он унижает сан ее и пол.
Закончился прием. Пришли в движенье
Придворные, пристойно расходясь.
Шуршали платья в шелковом волненье.
Вокруг Жуана ласково теснясь,
Послы передавали поздравленья
Своих монархов. Сразу поднялась
Сумятица восторгов; даже дамы
Ему любовь высказывали прямо.
Вокруг себя увидел мой герой
Все формы лести самой непритворной
И что же? Этой праздною игрой
Уже он забавлялся, как придворный:
Особ высоких созерцая строй,
Он кланялся, любезный и покорный,
Как знамя красоту свою неся,
Манерами чаруя всех и вся.
Екатерина всем понять дала,
Что в центре августейшего вниманья
Стал лейтенант прекрасный. Без числа
Он принимал придворных излиянья,
Потом его с собою увела
Протасова, носившая названье
Секретной eprouveuse[52] — признаюсь,
Перевести при музе не решусь.
Обязанности скромно подчинясь,
Он удалился с ней — и я, признаться,
Хотел бы удалиться: — мой Пегас
Еще не утомился, может статься,
Но, право, искры сыплются из глав,
И мысли как на мельнице кружатся.
Давно пора и мозг и нервы мне
Подправить в деревенской тишине.
ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ