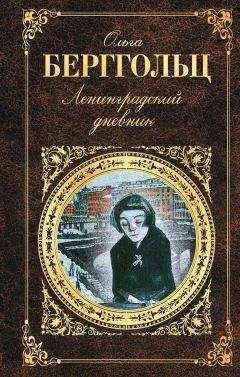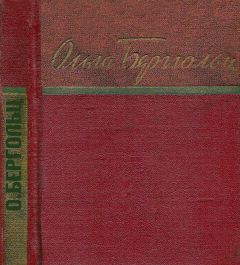Ольга Берггольц - Ольга. Запретный дневник
В июне 1943 г. писательскую колонию реэвакуируют в Москву. Уезжают из Чистополя и М. Т. Берггольц с внуком, а кочевая жизнь Федора Христофоровича продолжается. По записям Лебединского, в сентябре 1943 г. он переезжает в Казань, работает в эвакогоспитале № 3652 врачом-ординатором, позже его переводят в Тулу в той же должности в эвакогоспиталь № 5865, который затем переформировывают в полевой фронтовой госпиталь. С июня 1944 г. Ф. X. Берггольц работает в Туле в эвакогоспитале № 5383 врачом-ординатором.
Между тем Берггольц продолжает борьбу за ликвидацию «дела» отца и снятие 39-й статьи. «Насчет отца подаю письмо Жданову, — пишет она сестре 11 мая 1943 г., — а когда приеду в М<оскву>, надо будет заняться его подтягиванием куда-нибудь поближе»[332]. Наконец, не добившись желаемого результата, Ольга Федоровна пишет заявление городскому прокурору А. Н. Фалину[333]. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что Берггольц обращается к тому самому человеку, Анатолию Николаевичу Фалину, который во время ареста и тюремного заключения поэтессы в 1938–1939 гг. был старшим следователем. В архиве Берггольц сохранилась машинописная копия этого заявления. Заявление не датировано и содержание не дает возможности установить точную дату его написания. Лишь по косвенным данным можно определить крайние даты документа. По адресу, указанному Ольгой Федоровной в заявлении, оно могло быть написано не раньше апреля-мая 1943 г., так как переезд на ул. Рубинштейна, 22, начался приблизительно с 8 апреля[334], да и заявление к прокурору последовало, скорее всего, после майского письма к А. А. Жданову. Кроме того, в заявлении указано место работы и должность Ф. X. Берггольца — эвакогоспиталь в Туле, что позволяет считать, что заявление могло быть написано еще позднее, предположительно в конце 1943 г. или в 1944 г. Заявление к прокурору, представляющее собой как бы своеобразную биографию Федора Христофоровича, написанную его дочерью, публикуется полностью.
ГОРОДСКОМУ ПРОКУРОРУ ФАЛИНУ А. Н.
ЗАЯВЛЕНИЕ
От Берггольц О. Ф. ул. Рубинштейна, 22, кв. 8, т. 4–97–48
В самом начале октября месяца 1941 года мой отец, Бергольц (так в документе, — Н.П.) Федор Христофорович, врач больницы при комбинате им. Тельмана (быв<шая> ф<абрика>ка Торнтон)[335] был вызван на пл. Урицкого в милицию, где у него потребовали паспорт и без всякого объяснения причин перечеркнули прописку, а в пункт 8 вписали — «на основании статьи 39», после чего отцу было предложено в 24 часа покинуть город[336]. По причинам, не зависящим ни от отца, ни от милиции (начавшаяся блокада Ленинграда), отец выехать не смог. Райздравотдел предложил ему продолжать работу, что отец и стал делать, и тем временем подал заявление в горпрокуратуру. В беседе с отцом прокурор (фамилии не помню) спросил отца, правда ли, что он немец, и правда ли, что его отец был крупным акционером? Отец ответил, конечно, что и то и другое неправда: немцев у нас в роду не было и нет, отец отца (мой дед) латыш по национальности, с детства работал в Ленинграде и никогда не был ни крупным, ни мелким акционером, а свыше 50 лет проработал на одном месте, на ф<абрике>ке быв<шей> Паль (имени Ногина)[337].
Прокурор обещал «разобрать дело», отцу продлили прописку, он всю блокадную зиму в высшей степени самоотверженно работал в своей больнице, а в марте месяце все же ему было предложено выехать из Ленинграда… Видимо, все же в связи с тем, что кто-то принимал его не то за немца, не то за «сына крупного акционера», т<ак> к<ак> никаких объяснений ему так дано и не было, а каких-либо причин вообще к подобного рода репрессии — не существует.
Вся жизнь отца — жизнь честного русского врача. Он по специальности хирург. В 1914 году, сразу после окончания Университета, был мобилизован как военный хирург и всю Первую мировую войну провел на передовых позициях. С момента Октябрьской революции — в рядах Красной Армии, опять в качестве военного хирурга, на фронтах Гражданской войны, гл<авным> обр<азом> (далее текст не пропечатался. — Н. П.)…ных. На территории белых никогда не был. После демобилизации из (текст не пропечатался. — Н.П.). [С] 1921 года непрерывно работает в амбулатории и больнице при ф<абри>ке «Красный ткач», она же потом комбинат имени Тельмана (быв<шая> Торнтон, на правом берегу Невы), где заслужил себе большую любовь рабочих и работниц фабрики как внимательный и опытный врач. Неоднократно премировался за свою работу. Ежегодно был привлекаем в качестве врача на призывные пункты. С первых дней Отечественной войны опять-таки работал в качестве врача на мобилизационных пунктах в Володарском районе. Даже тогда, когда с ним произошла эта неприятность, в октябре 1941 года, спецотдел фабрики дал ему положительную характеристику. Родственников у нас за границей или связи с ней не было и нет; репрессированных родственников — так же. Поэтому нет сомнений, что высылка отца — итог какого-то недоразумения или ошибки.
Убедительно прошу Вас ликвидировать это недоразумение, снять с отца статью 39, которую он никоим образом не заслужил за всю свою жизнь, посвященную целиком работе по охране здоровья бойцов и рабочих нашей страны.
После выезда из Ленинграда отец работал в разных медучреждениях на периферии, в настоящее время работает старшим ординатором в эвакогоспитале в Туле[338].
Публикуемое заявление, вероятно, и было написано после случайной встречи Ольги Берггольц с Фалиным, о чем Мария Федоровна вспоминала так: «Эта встреча была очень значительная. Об этом надо рассказать. Ольга была уже в славе, в городе ее все знали, и она рассказывала: „Представляешь, вдруг смотрю, и через ряд сидит мой старший следователь, палач, Фалин. Меня всю затрясло. А он в это время уже был прокурором… главным прокурором города“. Он оглянулся, осклабился: „Ольга Федоровна, а вы узнаете меня?“. Она говорит: „Узнаю“. Сжала зубы. „Чем могу быть вам полезен?“ И вот тут Ольга, надо отдать справедливость великому ее характеру (наверно, я бы не сдержалась), а она сказала: „Можете быть полезны“. И просила за отца. Нашего отца в блокаду выслали туда в Сибирь за то, что категорически отказался быть сексотом, то есть доносить на своих больных, которые ему доверяли как богу. Никакие наши ходатайства не помогали. Вот до этой встречи. Фалин сразу согласился, мол, какие пустяки. Правда, на следующий день он сказал, что это очень трудно сделать, потому что дела на отца не было (а откуда ему быть?), однако через некоторое время помог сделать, как папа говорил, „индульгенцию“» [339]. Впрочем, «некоторое время» тянулось довольно долго и лишь к концу 1944 г. Берггольц удалось добиться снятия 39-й статьи и реабилитации Федора Христофоровича. Таким образом, по выявленным архивным и эпистолярным источникам, хлопоты Берггольц об отце шли «через Кубаткина», А. А. Жданова и, наконец, А. Н. Фалина.
Тему административной высылки и «дела» Федора Христофоровича сюжетно замыкает пятое из публикуемых писем Ольги Берггольц от 11 ноября 1944 г., в котором дочь сообщает о том, что скоро на руках у отца будет «настоящий, чистый, справедливый документ». Но лишь в начале февраля 1945 г. Ф. X. Берггольц получает новый паспорт. С осени 1945 г. он переходит на работу в дом инвалидов на ст. Куровская, где работает до марта 1947 г. В начале апреля 1947 г. приезжает и поселяется в Ленинграде и с этого времени постоянно лечится в Военно-медицинской академии, больницах им. Урицкого и им. К. Маркса с диагнозами воспаление легких и сердечная недостаточность. Тяготы войны и блокады, а также испытания, вызванные произволом властей, не могли не ослабить его здоровье и, возможно, ускорили его смерть.
Последнее из публикуемых писем Ольги Берггольц не было передано отцу, что позволяет предположить, что оно было написано незадолго до его смерти. На оборотной стороне листа имеется помета рукой Ольги Федоровны: «Письмо, написанное и не отданное отцу». Представляется неслучайным тот факт, что не дошедшее до адресата письмо было все-таки сохранено его дочерью как последнее заверение в любви и эмоционально-духовной близости, возникшими не только по родству. «Я обязана тебе всем самым лучшим, что есть во мне, — писала Ольга Федоровна, — жадным жизнелюбием, чувством юмора, упрямством, целомудрием чувств, даже — здоровым цинизмом! Я так хочу, чтоб ты жил!» (наст, публ., письмо 6).
Умер Федор Христофорович в больнице 7 ноября 1948 г., похоронен на Шуваловском кладбище. Умирая, отец слышал голос Ольги, которая вела по радио праздничный репортаж. Мария Берггольц писала: «…в больнице умирал наш отец, а ты в это время вела репортаж с площади Урицкого, то есть с Дворцовой (я все держала наушник у его уха и знала: пока он тебя слышит — не умрет!), я на минуту вышла из палаты. Рыжебородый плотник, который раньше лежал с ним в палате, тоже наш, заставский (он, видно, сторожил у палаты, но не смел войти), спросил меня: „Ну, как?..“ А я с отчаянием сказала: „Погибает!“ И он, сверкнув своими черными глазами (губы дрожали, даже рыжая борода этого не скрыла), сказал: „Великий был человек!“ Даже если вся его жизнь была для этих, сказанных тогда слов — она прошла недаром!»[340].