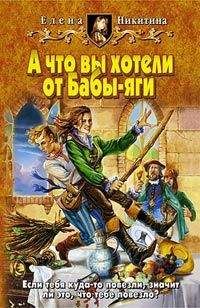Елена Крюкова - Зимний Собор
– Попал, Никола!..
– Мясо доброе…
– Спускайте трап – айда за тушей…
Сиянье Севера меж ребрами
Стояло, опаляя душу.
Но близ медведицы, враз рухнувшей
Горой еды, добытой с бою, –
О, что-то белое, скульнувшее,
Молящее забрать с собою!
Был бел сынок ее единственный –
Заклятый жизнью медвежонок.
Во льдах скулеж его таинственный
Слезою тек, горяч и тонок.
Я ствол винтовки сжал зачумленно.
Братва на палубе гудела.
Искуплено или загублено,
Чтоб выжить, человечье тело?!
Сторожевик, зажат торосами,
Борта зальделые топорщил.
И я, стыдяся меж матросами,
Лицо тяжелым смехом морщил.
О жизнь, и кровь, и гололедица,
Родимые – навеки – пятна!
Сейчас возьмем на борт медведицу,
Разделаем, соля нещадно.
И знал я, что теперь-то выживем,
Что фрица обхитрим – еды-то!..
И знал: спасительнейшим выстрелом
Зверюга Божия убита.
И видел – как в умалишении –
Себя, кто пережил, кто спасся:
Все глады, моры и лишения,
Все горести и все напасти!
Все коммуналки, общежития,
Столы, богаты пустотою,
И слезы паче винопития
В дыму дороги и постоя!
Всю жизнь – отверстую, грядущую!
Всех женщин, что, убиты мною,
Любимые, единосущие,
Ушли за вьюгой ледяною!
И ту, отчаянней ребенка,
С медовым и полынным телом,
Скулящую темно и тонко
Над мертвою постелью белой…
……………………………………………………
Но маленький комок испуганный
Точил свой плач у белой глыбы.
Но Время, нами так поругано,
Шло крупной медленною рыбой.
Но палуба кренилась заново.
Но плакал, видя жизнь – нагую.
Но страшно обнимало зарево
Наш остров ледяной
Колгуев.
ПЛЯСКА СКОМОРОШЬЯ
Кувырк, врастопырк, пробей пяткой сотню дыр’к! –
Летит ракша, кряхтит квакша,
А на пятках у тебя выжжено по кресту,
А и прикинули тебя жареной лопаткой ко посту,
Швырк, дзиньк, брямк, сверк!.. – стой:
Лезвие – под пятой:
Из распаханной надвое ступни –
Брусника, малина, рябина, – огни:
Глотни!.. – и усни… обними – не обмани…
Пляши, скоморохи, – остатние дни!..
Ты, дядька-радушник, багряный сафьян!.. –
Загашник, домушник, заржавелый наган:
В зубах – перо павлинье, сердчишко – на спине:
Вышито брусникой, шелковье в огне!
Бузи саламату в чугунном чану,
Да ложкой оботри с усов серебряну слюну:
Ущерою скалься, стерлядкой сигай –
Из синей печи неба дернут зимний каравай!
Кусочек те отрежут! Оттяпают – на! –
Вот, скоморох, те хрюшка, с кольцом в носу жена,
Вот, скоморох, подушка – для посля гулянки – сна,
Вот, скоморох, мирушка, а вот те и война!
Гнись-ломись, утрудись, – разбрюхнешь, неровен
Час, среди мохнатых, с кистями, знамен!
Венецьянский бархат! Зелен иссиня!
Зимородки, инородки, красная мотня!
Красен нож в жире кож! Красен ледолом!
А стожар красен тож, обнятый огнем!
Лисенята, из корыта багрец-баланду – пей!
Рудую романею – из шей на снег – лей!
Хлещет, блея, пузырясь, красное вино!
Блеск – хрясь! Рыба язь! Карасю – грешно!
А вольно – хайрузам! Царям-осетрам!
Глазам-бирюзам! Золотым кострам!
Мы ножи! Лезвия! Пляшем-режем-рвем
Шелк гробов! Родов бязь! Свадеб душный ком!
Ком камчатный, кружевной… а в нем – визга нить:
Замотали щенка, чтобы утопить…
Ах, ломака, гаер, шут, – ты, гудошник, дуй!
А сопельщика убьют – он-ить не холуй!
А волынщика пришьют к дубу, и каюк:
Гвозди рыбами вплывут в красные реки рук…
Ах, потешник, гусляр! Пусть казнят! – шалишь:
Из сороги – теши ты ввек не закоптишь!
Хрен свеклой закрась! Пляши – от винта!
Бьется знамя – красный язь – горькая хита!
Красная рыба над тобой бьется в дегте тьмы:
Что, попалися в мережу косяками – мы?!
Напрягай рамена, чересла и лбы –
Крепко сеть сплетена, не встанешь на дыбы!
Не гундеть те псалом! Кичигу не гнуть!
Пляшет тело – веслом, а воды – по грудь…
Пляшет галл! Пляшет гунн! Пляшу я – без ног!
Что для немца – карачун, русскому – пирог!
А вы чо, пирогами-ти обожрались?!..
А по лысине – слега: на свете зажились?!..
Заждались, рыжаки, лиса-вожака:
Нам без крови деньки – без орла деньга!
…пирогами, берегами, буераками, бараками, хищными собаками,
Банями, глухоманями, услонами-казанями,
Погаными пытками, пьяными свитками,
Вашими богатыми выручками, вашими заплатами-дырочками,
Кишмишами, мышами, поддельными мощами,
Учеными помощами, копчеными лещами,
Ледяными лесами, красными волосами,
Сукровью меж мехами, горячими цехами,
Чугунными цепями, цыплячьими когтями,
Вашими – и нашими – общими – смертями, –
Сыты – по горло!
Биты – по грудь!
…а умрешь – упадешь – зубов не разомкнуть:
Крепко сцеплена подкова, сварена сребром –
Ни ударить молотом, ни разбить серпом,
Ни – в скоморошью – рожу – кирпичом:
Из-под век – кровь на снег,
Ангел – за плечом.
***
Морозу – верь… древняна дверь… И воя
Собак – катит пятак – над головою…
И неба желтый, жирный кус.
Я серых туч боюсь убрус
На темечко надеть
И умереть.
И холод жжет, сжигает кость и мясо…
Я возвернулась – поздний гость – со пляса.
Плясали гадко.
Сосали сладко.
Из серых туч глядит дремучье Око
Спаса.
Тяну себя вперед, в мороз
Постыло.
Прищуры слез… завивы кос… – все – было.
Ты щучье, тучье, снеговое
Следи над голой головою…
Река вдали… и край земли…
Не обняли. Не помогли.
Нас двое:
Живое. Могила.
ЯПОНКА В КАБАКЕ
Ах, мадам Канда, с такими руками –
Крабов терзать да бросаться клешнями…
Ах, мадам Канда, с такими губами –
Ложкой – икру, заедая грибами…
Ах, мадам Канда!.. С такими – ногами –
На площадях – в дикой неге – нагими…
Чадно сиянье роскошной столицы.
Вы – статуэтка. Вам надо разбиться.
Об пол – фарфоровый хрустнет скелетик.
Нас – расстреляли. Мы – мертвые дети.
Мы – старики. Наше Время – обмылок.
Хлеба просили! Нам – камнем – в затылок.
Ты, мадам Канда, – что пялишь глазенки?!..
Зубы об ложку клацают звонко.
Ешь наших раков, баранов и крабов.
Ешь же, глотай, иноземная баба.
Что в наших песнях прослышишь, чужачка?!..
Жмешься, дрожишь косоглазо, собачка?!..
…………Милая девочка. Чтоб нас. Прости мне.
Пьяная дура. На шубку. Простынешь.
В шубке пойдешь пьяной тьмою ночною.
Снегом закроешь, как простынею,
Срам свой японский, – что, жемчуг, пророчишь?!
Может быть, замуж за русского хочешь?!..
Ах ты, богачка, –
Езжай, живи.
Тебе не вынести нашей любви.
Врозь – эти козьи – груди-соски…
Ах, мадам Канда, – ваш перстень с руки…
Он укатился под пьяный стол.
Нежный мальчик его нашел.
Зажал в кулаке.
Поглядел вперед.
Блаженный нищий духом народ.
ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ
Вселенский холод. Минус сорок. Скелеты мерзлых батарей.
Глаз волчий лампы: лютый ворог глядел бы пристальней, острей.
Воды давно горячей нету. И валенки – что утюги.
Ну что, Великая Планета? На сто парсек вокруг – ни зги.
Горит окно-иллюминатор огнем морозных хризантем.
И род на род, и брат на брата восстал. Грядущего не вем.
Как бы в землянке, стынут руки. Затишье. Запросто – с ума
Сойти. Ни шороха. Ни звука. Одна Египетская Тьма.
И шерстяное одеянье. И ватник, ношенный отцом.
Чай. Хлеб. Такое замиранье бывает только пред Концом.
И прежде чем столбы восстанут, огонь раззявит в небе пасть –
Мои уста не перестанут молиться, плакать, петь и клясть.
И, комендантский час наруша, обочь казарм, обочь тюрьмы
Я выпущу живую душу из вырытой могильной Тьмы!
По звездам я пойду, босая! Раздвинет мрак нагая грудь!
…Мороз. И ватник не спасает. Хоть чайник – под ноги толкнуть.
Согреются ступни и щеки. Ожжет ключицу кипяток.
Придите, явленные сроки, мессии, судьи и пророки,
В голодный нищий закуток.
И напою грузинским чаем, и, чтобы не сойти с ума,
Зажгу дешевыми свечами, рабочих рук своих лучами
Тебя, Египетская Тьма.
КСЕНIЯ БЛАЖЕННАЯ (ПЕТЕРБУРГСКАЯ)
…Охъ, ласточка, Ксеничка,
Дамъ Тебе я денежку –
Не смети-ка веничкомъ,
Куда жъ оно денется,
Траченное времячко,
Куда задевается –
Милостынька, лептушка:
Ксеньей прозывается –
Тише!.. – наша смертушка…
…Я не знаю, сколь мне назначено – сдюжить.
Сколь нацежено – стыть.
Какъ въ платокъ после бани, увязываюсь во стужу
И во тьму шагаю: гореть и любить.
Отъ Земли Чудской до Земли Даурской
Линзой слезной меряла гать…
Анъ какъ вышло: Ксенькою Петербургской
На кладбище чухонскомъ внезапно – стать.
Спать въ болезныхъ платкахъ подъ глухимъ заборомъ.
Хоромъ выплакать – бред
Одинокiй. И пить самогонку съ воромъ,
Ему счастья желая и много летъ!
И везде – ахъ, охальница, Охта, стужа,
Плащаница чернаго Суднаго Дня!.. –
Появляться въ залатанномъ платье мужа,
Да не мертваго, а – убившаго мя.
Помню, какъ хрипела. Какъ вырывалась –
Языками огня –
Изъ клещей, не знавшихъ, что Божья Жалость
Воскреситъ, охраня.
И когда… очухалась, – вся въ кровище!..
Доски пола въ разводахъ струй… –
Поняла: о, каждый живущiй – нищiй,
Всякая милостыня – поцелуй.
И съ техъ поръ какъ бы не въ себе я стала.
Вся пронзенная грудь.
Завернула въ верблюжье отцовое одеяло
Кружку, ложку, ножикъ, – и въ путь.
Посекаетъ мя снегъ. Поливаютъ воды
Поднебесныхъ морей.
Мне копейку грязные тычутъ народы.
Вижу храмы, чертоги царей.
Отъ Земли Чудской до Земли Даурской
Вижу – несыть, наледь и гладъ.
Вотъ я – въ старыхъ мужскихъ штанахъ!..
Петербургской
Ксеньи – меньше росточкомъ!.. а тотъ же взглядъ…
Та же стать! И тотъ же кулакъ угрюмый.
Такъ же нету попятной мне.
Такъ же мстится ночьми: брада батюшки Аввакума –
Вся въ огне, и лицо – въ огне.
Мстится смерть – крестьянской скуластой бабою
въ беломъ,
Словно заячьи уши, беломъ платке…
А мое ли живое, утлое тело –
Воровская наколка на Божьей руке.
И все пью, все пью изъ руки Сей – снеги
Да дожди; какъ слезы людскiя, пью.
А когда увезутъ меня на скрипучей телеге –
Я сама объ томъ съ колокольни пробью
Въ дикiй колоколъ, бедный языкъ богатаго храма
Богородицы, что близъ зимней Волги – убитый медведь…
И въ гробу мои губы разлепятся: “Мама, мама,
Божья Мать, я намерзлась въ мiру, какъ тепло умереть.”
И нетленныя кости мои
подъ камнемъ
все, кому выпало лютой зимой занедужить,
Будутъ такъ целовать,
обливать слезами,
любить!..
…Я не знаю, сколь мне назначено – сдюжить.
Сколь нацежено – стыть.
***
– Я всеми бабами была!.. Всеми!..
– Зима дороги замела… Время…
– А мужики!.. Сколь ребер, сколь тяжких…
– Скусила нить. Утерла боль рубашкой.
– А ты их помнишь?..
– Помню.
– Всех?!..
– Глыбы.
У рта встает мой волчий мех
Дыбом.
– А ну-ка, баба, вот Он – Твой!.. Грозно?!..
И – шелест, вой – над головой:
“Поздно”.
СВЯТАЯ НОЧЬ
…Ночь. Зима. Звезд карнавал. Бубенцы. На конской сбруе –
Серебро. Гостей назвал – и съезжаются, ликуя,
И валят за валом вал: в вышитых тюльпан-тюрбанах,
И дары в ладонях пьяных, и огонь на ятаганах!.. –
Кто лукум в пурге жевал, кто-то – меж горбов верблюда
Так заснул… а сеновал всей сухой травой играл:
Пахло сеном. Пахло чудом.
Гости жарких, дальних стран, призамерзли вы в метели?!..
Бальтазар, качнись ты, пьян, – в травной выспишься постели…
О, Каспар, а я блинов напекла!.. Мешок лимонов
Приволок… таких даров не держать рукам спаленным…
Кони ржут. Тележный скрип арфой, музыкой струится.
В нежных струнах мертвых лип звуки спят – живые птицы.
Инеем осолена, в звездно-вышитом хитоне
Спит береза, спит одна – меж сугробовых ладоней…
Мельхиор, уйди, пусти… Что в кувшинах?.. масло, вина?..
Что мне кажешь из горсти – камень яростный, невинный
Иль последнее “прости”?..
Так!.. пришли вы поглазеть… Приползли… текли, как реки,
Чтобы видеть, чтобы зреть… Чтобы выдохнуть: “Вовеки…”
Тише… мать с ребенком спят. А слоны в снегу храпят,
А верблюды сонно дышат, бубенцы коней не слышат…
Отдохните!.. Вот вам плат да с кистями, вот перина,
Вот подушки половина… Колокольчики гремят…
Рассупоньтесь… Туфли – прочь, Солнцем вышиты, звездами…
Путешественники, – ночь, Ночь Священная над нами…
Вы лишь бревнышки в печи, бель березовых поленцев, –
Спите, спите, три свечи, разостлавши из парчи
В изголовье полотенце…
Ты же… что не спишь, Таор?!.. Жмешь под мышкою бутылку…
Зришь – в двери – меж звезд – костер, прислоня ладонь к затылку…
И твой друг, Вооз, не спит… Как кулак пылает – слитком…
Вглубь меня – до дна – глядит: то ли песня… то ли пытка…
Брось ты так глядеть… идем. За руку тебя хватаю.
Сыплется златым дождем ночь глухая, Ночь Святая.
Что же ты, мой царь, смолчал. Что глазами все раскликал.
Ну – идем на сеновал, в царство шепота и крика.
Лестница. Шатает. Тьма. Запах кашки, горечавки.
Боже! Я сойду с ума от великой, малой травки.
Как ладони горячи. Хруст. И боль. И шелест. Боже,
О, молчи… – как две свечи в церкви, мы с тобой похожи.
В сена дым мы – обними!.. крепче!.. – валимся камнями:
Не людьми, а лошадьми, в снег упавшими дарами.
Ты сдираешь тряпки прочь с ребер, живота и лона:
Ты горишь, Святая Ночь, ярче плоти раскаленной.
Губы в губы входят так, как корона – в лоб владыки.
И в зубах моих – кулак, чтобы дух не вышел в крике.
Милый! Милый! Милый! Ми… сено колет пятки, груди…
Поцелуй меня костьми всеми. Бог нас не осудит.
Бог – сегодня Он рожден. Спит под Материным боком.
А слоны Ему – как сон. Ты же мне приснился: Богом.
Мягким хоботом слона и верблюжьею попоной…
Плеском – в бурдюке – вина… Колокольцем запаленным…
И лимонною короной на тюрбане… бирюзой
По исподу конской сбруи… И – сияющей слезой
На излете поцелуя…
Так целуй меня, целуй! Бог родился и не дышит.
На исходе звездных струй наши стоны Он лишь слышит.
Видит танец наших тел, золотых, неумолимых, –
Значит, так Он захотел: мы – лишь сон Его, любимый!
И, рукой заклеив стон, и, биясь на сеновале, –
Мы всего лишь Божий сон, что уста поцеловали!
Мы – его дитячий чмок у нагой груди молочной,
Снега хруст – и звездный ток, драгоценный, непорочный…
И, гвоздикой на губе, и, ромашкою нетленной, –
Вспоминаньем о косьбе – ты во мне, а я в тебе:
Боже, будь благословенна ночь!.. – душистый сеновал,
Праздник, бубенцы, деревня, гости, печь, вино, навал
Звезд – от смерда до царевны – в саже неба; смоль икон,
Золотой зубок лампадки – и твой рот, и смех, и стон,
Тело, льющееся сладко нежным мирром – на меня и в меня, –
и, Святый Боже, –
Взгляд, глаза, кресты огня – на щеке, груди, на коже:
Глаза два – вошли навек и навылет!.. – тише, глуше:
Так, как в ночь уходит снег, так, как в жизнь уходят души.
ВЕНЕРА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Так устала… Так вымоталась, что хоть плачь…
Дай, Господи, сил…
В недрах сумки копеешный сохнет калач.
Чай горький остыл.
Здесь, где узкая шпрота на блюде лежит,
Как нож золотой, –
Сознаешь, что стала веселая жизнь –
Угрюмой, простой.
В этом городе, где за морозом реклам –
Толпа, будто в храм, –
Что останется бабам, заезженным – нам,
Исплаканным – нам?..
Эта тусклая джезва?.. И брызнувший душ…
Полотенце – ко рту…
И текущая грязью французская тушь –
Обмануть Красоту…
И неверный, летяще отчаянный бег
В спальню… Космос трюмо –
И одежда слетает, как горестный снег,
Как счастье само…
И во мраке зеркал – мой накрашенный рот:
Сей воздух вдохнуть.
И подземный пятак из кармана падет –
Оплачен мой путь.
И на бархате платья темнеющий пот
Оттенит зябкий страх
Плеч худых – и, как солнечный купол, живот
В белых шрамах-лучах…
И, когда просверкнет беззащитная грудь,
Сожмется кулак, –
Я шепну: полюби меня кто-нибудь!
Это – просто же так…
Пока грузы таскаю, пока не хриплю,
Отжимаю белье,
Пока я, перед зеркалом плача, люблю
Лишь Время свое.
ЗАПАДНАЯ СТЕНА
ФРЕСКА ПЯТАЯ. БОСИКОМ ПО ВОДАМ
***
Синее небо.
…ах, васильковый покой!..
Ах, на облаках ангелочком застыну!..
…банная шайка,
тяжкой Боговой рукой
Опрокинутая на потную дворницкую спину.
ПИРУШКА НИЩИХ В КАБАКЕ
Мы Петровку, Столешников убирали ночьми…
Я – девчонка нездешняя – меж чужими людьми.
Это все были дворники. Не лопаты – крыла
Взмах. Ночные работники. Я газеты им жгла.
Чтобы крошево мусора все с асфальта сгрести,
На коленях промучиться да на брюхе ползти.
Да ручонками жалкими крючить в кучи тряпья –
Все, что выхаркнешь, жадина, ты, Столица моя…
Я стояла коленями в шоколадной грязи.
Я была – поколением, что лишь: Боже, спаси.
В сальной кепке мальчишеской, сигаретой дымя,
Я молилась: Пречистая, не сведи же с ума.
Неподъемные ящики. Мыловаренье мышц.
Вот твои деньги, пащенок, вот твой хлеб, вошь и мышь.
А когда полночь грохала обземь – рюмкой курант,
Метлы куцые охали: “Ну, айда в ресторант!..”
И валили мы кучею на Казанский, в буфет.
В блюда самые лучшие целил наш пистолет.
Дай блинов подгореленьких!.. Ледяное яйцо!..
Дай нам роскошь, Америку… сэндвич… что-то еще?!..
Дай холодную курицу. Вся в пупырках нога.
Дай холодную улицу, где – буранная зга.
И несли мы в бумажечках снедь в заплеванный зал,
Спали где Карамазовы средь голодных зеркал.
Черным кругом вставали мы, не стащил чтоб никто
Яблок страшное зарево и штормовки манто.
И так ели и пили мы, над едой наклонясь, –
Как бросали бутыли мы в Вавилонскую грязь,
Как, нагнувшись над урною, наизнанку – ее…
Боже, жизнь Твоя бурная. Боже, имя Твое.
И в стаканы граненые разливал дворник Флюр
Водку темно-зеленую, как мадам Помпадур.
И огни те стеклянные мы вздымали, смеясь,
Молодые и пьяные, в прах поправшие грязь.
МАТЬ ИОАННА РЕЙТЛИНГЕР
Грачи вопят. Мне росписи кусок
Закончить. Закурить. Заплакать.
Я знаю: мир неслыханно жесток.
Сожжет, как в печке ветхий лапоть.
Чужбины звон. Он уши застит мне.
Я с красками имею дело,
А чудится: палитра вся в огне,
А гарью сердце пропотело.
Худые ребра – гусли всех ветров –
Обуглясь под юродской плащаницей,
Вдохнули век. Парижа дикий кров
Над теменем – бескрылой голубицей.
Ковчег плывет от мира до войны.
Потуже запахну монашью тряпку.
Мне, малеванке, кисточки нужны
Да беличьи хвосты и лапки.
Середь Парижа распишу я дом –
Водой разливной да землей мерзлотной.
Я суриком сожгу Гоморру и Содом,
В три дня воздвигну храм бесплотный.
Мой гордый храм, в котором кровь отца,
Крик матери, кострище синей вьюги
Да ледоход застылого лица –
В избеленном известкой, бедном круге.
Пускай сей храм взорвут, убьют стократ.
Истлеет костяная кладка.
Воскресну – и вернусь назад
В пальто на нищенской подкладке.
Монахиня, – а кем была в миру?..
Художница, – гордыню победиши!..
Худая баба – пот со лба сотру,
А дух где хочет, там и дышит.
Ему Россия вся – сей потный лоб!..
Вся Франция – каштан на сковородке!..
Разверзлись ложесна. Распахнут гроб.
На камне – стопка чистой водки,
Сребро селедки, ситного кусок,
Головка золотого луку.
Я знаю твердо: Божий мир жесток.
Я кисти мою – бьет меж пальцев ток.
Встаю лицом ко тверди, на Восток.
Крещу еду. Благословляю муку.
И, воздымая длани, обнажась
Всей тощей шеей, всей душой кровавой,
Рожаю фреску, плача и смеясь,
Огромную, всю в облаках и славе.
***
О, так любила я цветную,
меховую, рогожную толпу!
Видала я ее живую.
Видала я ее в гробу.
Мне каждый помидор на рынке,
чеснок был каждый – царь!
Одни обмылки и поминки.
Один пустой мышиный ларь.
Цветносияющее Время,
родное, нищее, – прошло.
Уже не стремя и не семя:
Я под босой ногой – стекло
В грязи.
Ты не увидишь блеска.
И ты раздавишь всей ступней.
И боль. И кровь. И выкрик резкий
Чужой. И хруст последний мой.
ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ
Едва застыл байкальский плес, глазастая вода, –
Как по воде пошел Христос, по нежной кромке льда.
Как самородок-изумруд, озерной глуби гладь…
И так Он рек: – Здесь берег крут, другого – не видать…
Карбас качало вдалеке. Курили рыбари…
Мороз – аж слезы по щеке… Андрей сказал: – Смотри!
Смотри, Он по водам идет! По глади ледяной!
И так прекрасен этот ход, что под Его ступней
Поет зеленая вода! И омуль бьет об лед!..
Петр выдохнул: – Душа всегда жива. И не умрет.
Гляди, лед под Его пятой то алый, будто кровь,
То розовый, то золотой, то – изумрудный вновь!..
Гляди – Он чудо сотворил, прошел Он по водам
Затем, что верил и любил: сюда, Учитель, к нам!..
Раскинув руки, Он летел над пастью синей мглы,
И сотни омулевых тел под ним вились, светлы!
Искрили жабры, плавники, все рыбье естество
Вкруг отражения ноги натруженной Его!
Вихрились волны, как ковыль! Летела из-под ног
Сибирских звезд епитрахиль, свиваяся в клубок!
А Он вдоль по Байкалу шел с улыбкой на устах.
Холщовый плащ Его, тяжел, весь рыбою пропах.
И вот ступил Он на карбас ногой в укусах ран.
И на Него тулуп тотчас накинул Иоанн.
– Поранил ноги Я об лед, но говорю Я вам: