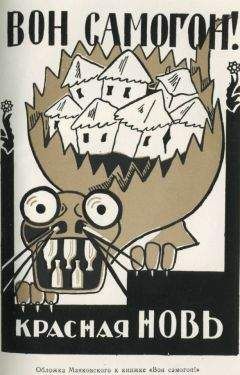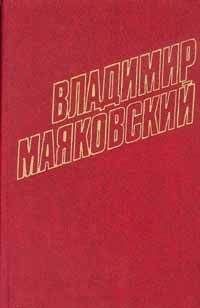Людмила Кулагина - Радость и грусть бытия
Утро
День пытается пробиться
Через шторы на окне.
Он насвистывает птицей
Песню утра сонной мне.
Сна спадут пелéны, шоры,
Мысль пробудится, ясна.
Я раскрою в окнах шторы, –
Засияет в них весна.
На столе – букет фиалок,
Бело-жёлто-синих крох,
Он слегка подвял и жалок.
Рядом ландышей горох.
Сладковатым ароматом
Одурманит меня вдруг.
Пусть мой будет день богатым,
Как цветами вешний луг.
Утро – всё, как ожиданье
Чуда, сказки, волшебства.
Как наклон и колебанье
Жизни шаткого шеста…
Жара в красках
(В тени +33 градуса)
Ультрамариновое утро.
И синий кобальт меж ветвей.
Для тех, кто к ночи не был мудрым,
Не будет утро мудреней.
И новый день в жаре и поте,
Как предыдущий, пролетит.
Людей в реке, как груш в компоте, –
От девяти до девяти.
Распят телами местный пляжик,
Кишит, орёт, визжит река.
А тот, кто лыка уж не вяжет,
Лежит «цыплёнком табака».
Краплак и кадмий, окись хрома[10], –
Пестрит, жужжит весь пляжный рой.
Народ бежит к реке из дома,
Гоним нещадною жарой.
До синих плещутся мурашек,
Мелькают юркие мальки –
Детишки в речке, а мамаши
Готовят снеди им кульки.
Какой-то дурень оголтелый
На всю приёмник врубит мощь.
Ум перегрет и в ссоре с телом.
И завтра нам не светит дождь.
Жара. Жарища, как в пустыне.
Полýденный, без ветра зной.
К закату чуть народ остынет,
Гуськом потянется домой.
Чуть меньше дома – двадцать восемь.
И есть не хочется, но – пить.
В жару невольно вспомнишь осень. –
Жди, будет повод погрустить.
Оставь «филиппики»[11] на осень:
Дожди и холод ждут нас в ней.
Раскинет ночь всю в звёздах простынь.
Пусть утро будет мудреней…
Попытка самоуговора
В день Вознесения Христа
Так дивно Ангелы нам пели!
Их взоры в синих небесах
Как будто в души нам глядели.
Две ветви веры в этот день
Вновь ýзами соединились,
Рассеял свет размолвки тень,
И Ангелы возвеселились.
И умиленная слеза,
Нежданная, из глаз скатилась,
И всё, что видели глаза,
Небесным светом осветилось.
……………………………………….
А в это время наверху
Сверлила дрель и бухал молот.
Болел и ныл сустав, опух,
И слух терзало дрели соло.
Соседка делала балкон, –
Чтоб не балкон был, а «конфетка».
Был так некстати шум и звон,
Примерно, как свинье салфетка.
Но я терпела. А куда,
Простите мне, могла я деться? –
Ведь к часу Страшного Суда
Есть смысл к сим звукам притерпеться.
Вдруг я у Бога не найду
Себе прощенья, оправданья.
– Терпи болезнь, беду, нужду,
Чтоб скрасить с Господом свиданье.
Не раздражайся и не злись, –
Для Бога нет ценней смиренья.
И, слыша циркулярки визг,
Внемлѝ за ним иному пенью.
С пилой и молотом смирись,
Попридержи язык и мненье.
Ведь хочешь в рай? –Тогда лечись
Досад, скорбей и бед терпеньем.
В однокомнатной «хрущёвке»
Не раз мечтала о балконе
Я в тесноте первоэтажной,
Где всё, как в том «в одном флаконе»:
Мой будуар неавантажный[12],
Мой кабинет, читальня, зала
С неразберихою вокзала,
И раздевалка, и кладовка
Совмещены здесь очень ловко.
Когда на нужное нет денег,
То о комфорте речь нейдёт:
То полка мне плечо заденет,
То корпус в щёлку не пройдёт.
И вот мечта во мне теплится:
Как будто есть уже балкон –
Светёлка и цветам теплица,
И до чего ж уютен он!
Внутри него цветы и столик,
И кресло, чтоб читать, читать…
Хоть в жизни я не трудоголик,
С балконом им могла бы стать.
И лучшей не было б мне доли –
Писать рассказы и стихи.
Плыла б в балконе, как в гондоле
Я по Венециям стихий.
Известно, любит вдохновенье
На крыльях воспарять в эфир.
А тут какое воспаренье,
Коль рядом кухня и сортир…
Мечта иссякла. Всё, как прежде.
Суха гортань, мечты взалкав.
Моя балконная надежда
Зависла где-то в облаках.
Случай в Асéевском парке
Настал черёмуховый май.
Цветут тюльпан, нарцисс, фиалка.
Свет жизни льётся через край, –
Цвести готова даже палка.
Как хризолитна в парке сныть!
Берёзки светятся в серёжках.
Отрадно с другом мне бродить
По старым парковым дорожкам.
И вдруг – хлопок! И крыльев взмах!
Стрелял в ворону «добрый» дядя.
На наше «Ох!» и наше «Ах!»
Плевал тот дядя, в «мушку» глядя.
Он выстрелил в ворону-цель
(из пневмопушки иль мушкета?).
И вздрогнула от страха ель,
Услышав «смерть» из пистолета.
Он был немолод, даже сед,
Но с выправкой легкоатлета,
Он даже, кажется, сосед
Ближайших этажей и клеток.
Померкла вдруг моя весна.
Упало сердце, будто в шахту.
Кричали птицы, ель, сосна,
И дядя вдруг покинул «вахту».
Ему я крикнула вослед:
За что её? Она – ЖИВАЯ!
«Мы все живые», – он в ответ
Отлаял, как сторожевая.
Как объяснить ему, в летах,
Что так нельзя, ворона – Божья!
И что не нам дано решать,
Кому не жить. Себе дороже
И нервам обойдётся речь.
Что говорить? – Она – жи-ва-я!!
Свою-то душу уберечь,
И то от смерти не желаем.
Тирада против быта
Как вездесущи тараканы,
Всепроникающе-мерзки!
Сочатся каплями из кранов
Заботы наших душ мирских.
Как мухи или таракашки,
Куда ни глянь, всё на виду:
Стряпни, уборки, стирки, глажки, –
Всё липнут мухой на меду.
Забот вседневных мелочёвка
Так поглощает много сил,
Что к вечеру мечта – ночёвка.
Мечты иные быт скосил:
Учить язык, зарядку сделать,
Стихотворенье написать,
Своим заняться бренным телом,
Что стало часто «зависать»,
Как будто старенький компьютер,
А лямку-то ещё тянуть…
Да мало ль планов было утром.
И всё короче жизни путь.
И надо как-то исхитряться
Хоть главные успеть из дел,
Чтоб перед вечностью не клясться,
Что был талант, да «быт заел».
Райские дни
Какие вдруг сине-зелёные дни
Для нас на земле наступили!
Они самоцветам их блеском сродни.
И нет ещё пуха и пыли.
И дождики были, хотя и без гроз.
И зелень повсюду полезла.
И светом пронизаны листья берёз.
Газоны узнали зуб лезвий.
По-летнему жарко. Черёмухи дух
Заполонил палисадник.
И комаров пока мало, и мух,
И прочих довесок досадных,
Что к лету положены, дабы оне
О бренности напоминали:
Хоть счастливы мы в этом солнечном дне,
Но рай всё ж не здесь, чтобы знали.
И снова жизнь!
Жизнь ворвалась в мои стихи, как вихрь,
Торнадо, все сметающий преграды.
Едва записывать я успеваю их.
Возможно, то за боль мою награда.
Пишу о том, что было и что есть,
О будущем, как водится, мечтаю,
И это для меня – от жизни честь,
Такое счастье, – и сказать не знаю.
Об этом и мечтать я не могла:
Давно жила, лицом-душой уныла,
И заволакивала путь мой мгла,
А скорбь и вовсе чернотой покрыла.
Я думала, что жизнь моя прошла,
Что только эпилог её листаю,
И в обречённость, как в затвор, ушла,
Надежд крылатых выпустила стаю.
Но снова жизнь! И снова май и цвет!
И эту жизнь в стихах я воспеваю.
Не значит это, что в ней горя нет,
Но счастье есть, – я точно это знаю.
«Иди и говори»
У меня вдруг открылись глаза.
Я от боли проснулась во мраке.
Свора бед, отпустив тормоза,
Погналась по пятам, как собаки.
Стала жить, округляя глаза,
Ужасаясь, стоная, болея.
Белый свет застилала слеза,
А собаки всё делались злее.
Я увидела мир, как он есть,
Без привычных романтик и флёра[13].
Были раньше – «ум, совесть и честь»,
А теперь лишь фиглярство актёра.
Оказалась я в смуте игры.
Окружала меня свора злая.
Я спасенья ждала до поры,
Всей жестокости игр тех не зная.
Я прошла эту боль, этот мрак.
И я видела смерть не из кресла.
И была бы смертельной игра,
Если б заново я не воскресла.
Но за это, судьба, не корю,
Что глаза, хоть и с болью, открылись.
Я проснулась: иду, говорю,
Над собой слыша Ангела крылья.
Портрет с противоречьями