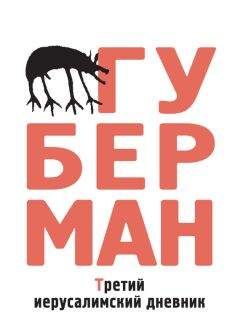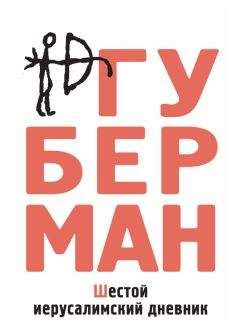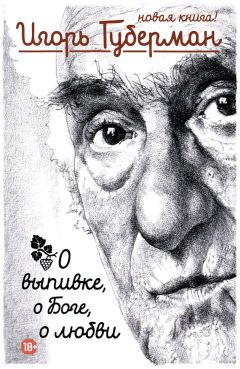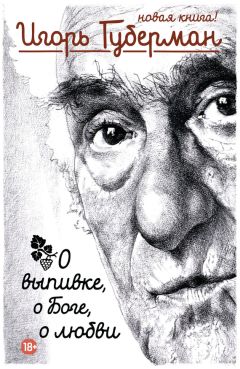Игорь Губерман - Дар легкомыслия печальный…
Кто понял жизни смысл и толк, давно замкнулся и умолк
* * *Мы вчера лишь были радостные дети,
но узнали мы в награду за дерзание,
что повсюду нету рая на планете,
и весьма нас покалечило познание.
Нас душило, кромсало и мяло,
нас кидало в успех и в кювет,
и теперь нас осталось так мало,
что, возможно, совсем уже нет.
Не в силах никакая конституция
устроить отношенья и дела,
чтоб разума и духа проституция
постыдной и невыгодной была.
По эпохе киша, как мухи,
и сплетаясь в один орнамент,
утоляют вожди и шлюхи
свой общественный темперамент.
На исторических, неровных,
путях заведомо целинных
хотя и льется кровь виновных,
но гуще хлещет кровь невинных.
Неистово стараясь прикоснуться,
но страсть не утоляя никогда,
у истины в окрестностях пасутся
философов несметные стада.
Я не даю друзьям советы,
мир дик, нелеп и бестолков,
и на вопросы есть ответы
лишь у счастливых мудаков.
Блажен, кто знает все на свете
и понимает остальное,
свободно веет по планете
его дыхание стальное.
В эпохах, умах, коридорах,
где разум, канон, габарит —
есть области, скрывшись в которых,
разнузданный хаос царит.
Множество душевных здесь калек —
те, чей дух от воли изнемог,
ибо на свободе человек
более и глуше одинок.
Зря, когда мы близких судим,
суд безжалостен и лих:
надо жить, прощая людям
наше мнение о них.
Всюду, где понятно и знакомо,
всюду, где спокойно и привычно,
в суетной толпе, в гостях и дома
наше одиночество различно.
Прозорливы, недоверчивы, матеры,
мы лишь искренность распахнутую ценим —
потому и улучшаются актеры
на трибунах, на амвонах и на сцене.
Наш век устроил фестиваль
большого нового искусства:
расчислив алгеброй мораль,
нашел гармонию паскудства.
Я изучил по сотням судеб
и по бесчисленным калекам,
насколько трудно выйти в люди
и сохраниться человеком.
И понял я, что поздно или рано,
и как бы ни остра и неподдельна,
рубцуется в душе любая рана —
особенно которая смертельна.
Жаль беднягу: от бурных драм
расползаются на куски
все сто пять его килограмм
одиночества и тоски.
Вижу в этом Творца мастерство,
и напрасно все так огорчаются,
что хороших людей большинство,
но плохие нам чаще встречаются.
По прихоти Божественного творчества,
когда нам одиноко в сучьей своре,
бывает чувство хуже одиночества —
когда еще душа с рассудком в ссоре.
Нам в избытке свобода дана,
мы подвижны, вольны и крылаты,
но за все воздается сполна
и различны лишь виды расплаты.
Есть люди с тайным геном комиссарства,
их мучит справедливости мираж,
они запойно строят Божье царство,
и кровь сопровождает их кураж.
Когда боль поселяется в сердце,
когда труден и выдох, и вдох,
то гнусней начинают смотреться
хитрожопые лица пройдох.
Какую мы играть готовы роль,
какой хотим на лбу нести венец,
свидетельствуют мелочь, знак, пароль,
порою – лишь обрезанный конец.
Свобода к нам не делает ни шагу,
не видя нашей страсти очевидной,
свобода любит дерзость и отвагу,
а с трусами становится фригидной.
И здесь дорога не легка,
и ждать не стоит ничего,
и, как везде во все века,
толпа кричит – распни его!
Посмотришь вокруг временами
и ставишь в душе многоточие…
Все люди бывают говнами,
но многие – чаще, чем прочие.
Пока не требует подонка
на гнусный подвиг подлый век,
он мыслит нравственно и тонко,
хрустально чистый человек.
Любой мираж душе угоден,
любой иллюзии глоток…
Мой пес гордится, что свободен,
держа в зубах свой поводок.
Книги много лет моих украли,
ибо в ранней юности моей
книги мне поклялись (и соврали),
что, читая, стану я умней.
Увы, но с головами и двуногие
случались у меня среди знакомых,
что шли скорей по части биологии
и даже по отделу насекомых.
Не все заведомо назначено,
не все расчерчены пути,
на ткань судьбы любая всячина
внезапно может подойти.
Нелепы зависть, грусть и ревность,
и для обиды нет резона,
я устарел, как злободневность
позавчерашнего сезона.
Чтоб делался покой для духа тесен,
чтоб дух себя без устали искал,
в уюте и комфорте, словно плесень,
заводится смертельная тоска.
Не верю я, хоть удави,
когда в соплях от сантиментов
поет мне песни о любви
хор безголосых импотентов.
Весь день я по жизни хромаю,
взбивая пространство густое,
а к ночи легко понимаю
коней, засыпающих стоя.
Когда струились по планете
потоки света и тепла,
всегда и всюду вслед за этим
обильно кровь потом текла.
Есть в идиоте дух отваги,
присущей именно ему,
способна глупость на зигзаги,
недостижимые уму.
Тоскливей ничего на свете нету,
чем вечером, дыша холодной тьмой,
тоскливо закуривши сигарету,
подумать, что не хочется домой.
Довольно тускло мы живем,
коль ищем радости в метании
от одиночества вдвоем
до одиночества в компании.
От уксуса потерь и поражений
мы делаемся глубже и богаче,
полезнее утрат и унижений
одни только успехи и удачи.
С утра душа еще намерена
исполнить все, что ей назначено,
с утра не все еще потеряно,
с утра не все еще растрачено.
Мои друзья темнеют лицами,
томясь тоской, что стали жиже
апломбы, гоноры, амбиции,
гордыни, спеси и престижи.
В кипящих политических страстях
мне видится модель везде одна:
столкнулись на огромных скоростях
и лопнули вразлет мешки говна.
Душа не плоть, и ей, наверно,
покой хозяина опасен:
благополучие двухмерно
и плоский дух его колбасен.
От меня понапрасну взаимности
жаждут девственно чистые души,
слишком часто из нежной невинности
проступают ослиные уши.
Наш век нам подарил благую весть,
насыщенную горечью глобальной:
есть глупость незаразная, а есть —
опасная инфекцией повальной.
Я уважаю в корифеях
обильных знаний цвет и плод,
но в этих жизненных трофеях
всегда есть плесени налет.
Еще Гераклит однажды
заметил давным-давно,
что глуп, кто ступает дважды
в одно и то же говно.
Забавно, что, живя в благополучии,
судьбы своей усердные старатели,
мы жизнь свою значительно улучшили,
а смысл ее – значительно утратили.
А странно мы устроены: пласты
великих нам доставшихся наследий
листаются спокойно, как листы
альбома фотографий у соседей.
Во мне есть жалость к индивидам,
чья жизнь отнюдь не тяжела:
Господь им честно душу выдал,
но в них она не ожила.
Везде в эмиграции та же картина,
с какой и в России был тесно знаком:
болван идиотом ругает кретина,
который его обозвал дураком.
Мы так часто себя предавали,
накопляя душевную муть,
что теперь и на воле едва ли
мы решимся в себя заглянуть.
На крохотной точке пространства
в дымящемся жерле вулкана
амбиции наши и чванство
смешны, как усы таракана.
Учти, когда душа в тисках
липучей пакости мирской,
что впереди еще тоска
о днях, отравленных тоской.
По чувству легкой странной боли,
по пустоте неясной личной
внезапный выход из неволи
похож на смерть жены привычной.
Мы ищем истину в вине,
а не скребем перстом в затылке,
и если нет ее на дне —
она уже в другой бутылке.
Жить, не зная гнета и нажима,
жить без ощущенья почвы зыбкой —
в наше время столь же достижимо,
как совокупленье птички с рыбкой.
Давно среди людей томясь и нежась,
я чувствую, едва соприкоснусь:
есть люди, источающие свежесть,
а есть – распространяющие гнусь.
Сменилось место, обстоятельства,
система символов и знаков,
но запах, суть и вкус предательства
на всей планете одинаков.
Не явно, не всегда и не везде,
но часто вдруг на жизненной дороге
по мере приближения к беде
есть в воздухе сгущение тревоги.
Наука ускоряет свой разбег,
и техника за ней несется вскачь,
но столь же неизменен человек
и столь же безутешен женский плач.
Надежность, покой, постоянство —
откуда им взяться на свете,
где время летит сквозь пространство,
свистя, как свихнувшийся ветер.
Присущая свободе неуверенность
ничтожного зерна в огромной ступке
рождает в нас душевную растерянность,
кидающую в странные поступки.
Многие знакомые мои —
вряд ли это видно им самим
жизни проживают не свои,
а случайно выпавшие им.
Мы, как видно, другой породы,
если с маху и на лету
в диком вакууме свободы
мы разбились о пустоту.
Мы с прошлым распростились. Мы в бегах.
И здесь от нас немедля отвязался
тот вакуум на глиняных ногах,
который нам духовностью казался.
Не зря у Бога люди вечно просят
успеха и удачи в деле частном:
хотя нам деньги счастья не приносят,
но с ними много легче быть несчастным.
Густой поток душевных драм
берет разбег из той беды,
что наши сны – дворец и храм,
а явь – торговые ряды.
После смерти мертвецки мертвы,
прокрутившись в земном колесе,
все, кто жил только ради жратвы,
а кто жил ради пьянства – не все.
Правнук наши жизни подытожит.
Если не заметит – не жалей.
Радуйся, что в землю нас положат,
а не, слава Богу, в мавзолей.
Увы, когда с годами стал я старше, со мною стали суше секретарши