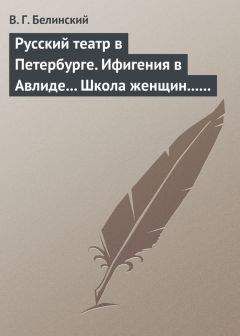Алексей Недогонов - Дорога моей земли
1939 г.
Открытое письмо
Игла мороза раннего остра.
Шипят дрова на раскаленной жести.
Я вновь веду с товарищами вместе
короткие беседы у костра.
И вполушепот мы —
не без грехов —
припоминаем трепетные были,
как мы к любви в доверие входили
при помощи лирических стихов.
Какие мы бываем в эти дни
смешные и наивные!
Мы часто
о женах вспоминаем для контраста,
чтобы траншеи были нам сродни.
Любимая,
сейчас, живя войной,
я так сдружился с вражьими смертями,
что, если б поменялись мы местами,
ты поняла б,
как ты любима мной!
Финляндия, ст. Перкьярви, 1940 г.
Утверждение
А бывает так, что ты в пути
загрустишь.
И места не найти
в этом —
набок сбитом — захолустье.
На войне попробуй не грусти —
обретешь ли мужество без грусти?
Это чувство в нас живет давно,
это им рассыпаны щедроты
подвигов.
И верю я — оно
штурмом брало крепости и доты.
Видел я:
казалось, беззащитный,
но в снегу неуязвим и скор,
по-пластунски полз вперед сапер
к амбразурам
с шашкой динамитной.
Ветер пел:
«Пробейся, доползи!»
Снег шуршал:
«Перенеси усталость!»
Дотянулся.
Дот зловещ вблизи —
пять шагов до выступов осталось.
Понял:
этот холм, что недалеч,
как бы там судьба, ни обернулась,
нужно сбить.
Придется многим лечь.
И саперу, может быть, взгрустнулось.
К вечеру, когда была взята
с гулким казематом высота,
мы его нашли среди обломков,
Он лежал в глухом траншейном рву
мертвой головою —
на Москву,
сердцем отгремевшим —
на потомков.
Песня забегает наперед,
что напрасно мать-старушка ждет…
Значит, память подвигом жива!
В сутолоке фронтовой, военной
эти недопетые слова
стали мне дороже всей вселенной.
И в часы,
когда душа в долгу,
в праздники, когда поет фанфара,
песенку про гибель кочегара
равнодушно слушать не могу.
Финляндия, 1940 г.
Искупление
С нами рядом бежал человек.
Нам казалось: отстанет — могила.
Он упал у траншеи.
На снег
малодушье его повалило.
Перед строем смотрел в тишину.
Каждый думал: он должен в сраженье
искупить своей кровью вину
перед павшим вторым отделеньем.
Силой взглядов друзей боевых
в безысходном его разуверьте:
он обязан остаться в живых,
если верит в бессилие смерти.
— Что таишь в себе, зимняя мгла?
— Проломись сквозь погибель и вызнай!
Он идет
и, ползя сквозь снега,
не своею, а кровью врага
искупает вину пред Отчизной.
…Наш солдат, продираясь сквозь ад,
твердо верит, в бою умирая,
что и в дрогнувшем сердце солдат
есть какая-то сила вторая.
Это — думы о доме родном,
это — тяжкого долга веленье,
это — все, что в порыве одном
обещает судьбе искупленье.
1940 г.
Танк
Порою жизнь таится и в снегах.
БайронПулеметчик остался один на снегу:
Калантаев Кадыр из шестой пулеметной.
Стерегла его пуля на каждом шагу,
беспокоил и шорох и звук мимолетный.
Словно мертвая рыба —
вдали островок:
триста метров безмолвного снежного наста.
Автоматы лесные ударили часто:
это первые ласточки первых тревог.
Калантаев окидывал поле глазами.
Финны — слева и справа.
Сужается мир.
На исходе патроны и силы. Кадыр
бил короткими гневными очередями.
Но случилось —
вдруг что-то вблизи просвистело.
И согнуло в дугу пулеметчика тело.
Что он в эти минуты припомнить сумел?
Разве жгучий
сыпучий песок Ширабада,
где над маленьким детством афганец шумел,
чем-то схожий с надорванным плачем снаряда?
Край садов и барханов в сознанье мелькнул —
край кочевий, как зимний закат, желтогрудый?..
Вдруг услышал Кадыр нарастающий гул,
одиночные выстрелы легких орудий.
Стороной,
обогнув неприятеля фланг,
перелеском,
где снег да чащоба глухая,
как железный таран, ворошиловский танк
в серебристой пыли проходил громыхая.
Он спешил к пулеметчику,
грозен и хмур,
перемахивал вражьи траншеи
с разбега,
и глазами прямых и живых амбразур
он выискивал
нашего парня-узбека.
И когда, обнаружив, к нему подошел
и прикрыл его нежно-горячей бронею,
пулеметчик,
как бурей подбитый орел,
молчаливо следил за скупой тишиною.
Танк гудел
и удары свинца принимал.
Мерный гул походил на рычание зверя.
Калантаев броню целовал, обнимал,
и смеялся и плакал, в спасенье не веря.
…Мимо нас,
проминая в снегах колею,
танк на скорости шел и звенел от мороза.
Над его орудийною башней в строю
на Перкьярви летело звено бомбовозов.
Апрель 1940 г.
Семен Вдовиченко
Томителен путь наш,
но воздух, на счастье, сухой.
Нам путь проложили в бою пропотевшие танки.
На самой окраине тихой,
от снега глухой,
наш взвод разместился в покинутой кем-то землянке.
— Дивись, громадяне, хороший якый уголок,
нэ дуже щоб тэплый —
отак нам, солдатам, и надо… —
сказал Вдовиченко — известный во взводе стрелок,
на шутки и выдумки
мастер особого склада.
На фронте, как долгие годы, проходят часы.
Бывает, что слышишь сквозь сон, напряженный
и краткий,
не то чтобы тихо,
не то чтобы, скажем, украдкой,
а чуть ли не с громом настойчиво лезут усы.
Семен Вдовиченко шутил надо мною не раз
в окопах, в землянках,
в снегу, где свинцовые пчелы:
— Вы бачите, хлопцы, якый появился Тарас —
усы, як у Бульбы,
таких я нэ бачив николы!
И вдруг загрустит он.
И вспомнит Галину свою,
полтавскую хату и вербы у низкого тына,
и кажется,
ежели он обессилит в бою,
то кликнет на помощь Галину.
И встанет на помощь Галина.
…На подступах к Выборгу
стоном стонали леса.
И мы под гудение снежной метели
за час до атаки
давали друзьям адреса:
убьют, напиши, мол,
что умер не дома в постели…
Лежим мы в окопе.
И я обращаюсь: — Семен,
жена родила мне, как пишет, чудесного сына.
Какое бы имя мне выбрать из сотен имен:
Владимир… Евгений?.. —
А он машинально:
— Галина!
И смотрит вперед.
И берет заскорузлой рукой
готовую к подвигу
в жесткой рубашке гранату.
Вдруг синий орешник
напомнил осокорь донской,
а домик в сугробах
напомнил полтавскую хату.
И тут Вдовиченко поднялся
над громом долин,
в начале бессмертья
винтовку держа наготове,
как давних времен Запорожья
герой-исполин,
украинец родом,
но русский по духу и крови.
И мы незаметно пошли
по следам смельчака.
И как мы ворвались во вражьи траншеи, —
не знаю…
Мне помнится вечер:
Суоми. Снега. Облака.
Луна над высоткой зияла,
как рана сквозная.
И в эти минуты,
пожалуй, прикинуть не грех,
что воины ищут в боях
настоящую драку,
что слово «бессмертье»
придумано только для тех,
кто с места сорвется
и первым откроет атаку.
1940 г.
Домик
Вспоминаю: у опушки леса —
станция,
снегов голубизна,
Левашово, улица Жореса,
палисадник,
домик в два окна.
Маленький.
Под ношей снегопада
он живет спокойствием скупым —
в двадцати верстах от Ленинграда,
в тридцати — от финского снаряда,
в двух верстах от штаба.
Мы не спим.
На стене висит страна Суоми…
Пехотинцы дремлют на соломе…
Гул бомбардировщиков несносен:
он колеблет кроны снежных сосен
и сбивает с толку тишину.
Улицей Жореса батальоны
двинулись на север.
На войну.
В стуже каменной пути большого
на ветру граненый штык свистел.
Мрело небо.
Домик в Левашово
в декабре.
В рассвет.
Осиротел.
По ночам он только слушал вьюгу,
и внимал ветрам пороховым,
и стоял
резным фронтоном к югу,
к северу —
окошком слуховым.
Кто бы знал, что домик на опушке
не гасил в тревожный час огня
и глазами матери-старушки
провожал в сражение меня!
Шла война.
Озера стыли прорвами.
Глухо бил по Виппури снаряд.
С каждым шагом,
с каждым дотом взорванным
больше света шло на Ленинград.
…Воздух марта плотный, как железо.
Мы — в пути.
Окончена война.
Левашово. Улица Жореса.
Станция. Снегов голубизна.
Никогда ничем не затуманится
и навеки в памяти останется
невысокий домик в два окна!
1940 г.