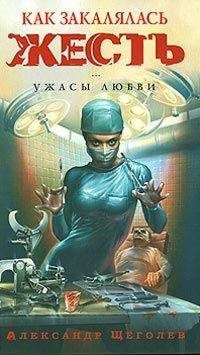Евгений Рейн - Избранное
ФОНТАН
Сойду на пристани, взойду по лестнице,
Пройдусь по Пушкинской и Дерибасовской,
Войду во дворик я, где у поленницы
Стоит фонтан с разбитой вазочкой.
Он сонно капает слезою ржавою,
А прежде славился струею пресною.
И я припомню жизнь дешевую,
И роскошь южную и воскресную.
Рубашку белую и юность целую,
Тебя во дворике под полотенцами,
И ничего я не поделаю
Под полосатыми полутенями.
Так славно в августе, и надо малости —
Винца в бутылочке, мясца на вилочке.
А ты дурачишься, стоишь, ломаешься
В своем одесском переулочке.
Когда же вечером выходим в город мы,
Где одиночки горе мыкают,
И где купальщики проходят голые,
И пароходы за море двигают.
Тебе мерещится Европа глупая,
А мне — матраса дерюга грубая.
О, юность лютая, Одесса людная
На пляжах галька, такая крупная.
Но твой проулочек забылся накрепко
И вот теперь зашел и слушаю:
И нету хохота, и нету окрика,
Фонтанчик капает слезою рыжею.
У ЛУКОМОРЬЯ
«У лукоморья дуб зеленый…»
Мясной, тяжелый суп соленый
Да мутноватая бутыль.
Четвертый день несносный дождик,
Экскурсовод, лесник, художник
Погоды ждут — все гиль.
Привез леща я из Ростова,
У положенья холостого
Есть преимущество одно —
Внезапные перевороты
По поводу тоски, погоды.
В двенадцать дня темно.
Без пропусков обсерваторий
Тьма наступает, как Баторий,
Когда он шел на Псков
По этим вот местам священным.
Под влажносиним освещеньем
Готов я, не готов?
К огню и людям жмутся тени,
Стучат разбитые ступени.
Кто там? А никого…
Давно ли я ушел из дома?
Что это — сон или истома?
А счастье каково?
Не знаю. Жизни выкрутасы,
А может, девочка с турбазы,
Что забегает вдруг.
Иль шум дождя о рубероид,
Овчина, что меня укроет,
И голоса старух.
О чем они теперь судачат?
Мой век окончен? Он не начат,
Я только что рожден.
Сам перегрыз я пуповину,
Сегодня прожил половину,
Что будет завтра днем?
«Нет вылета. Зима. Забит аэродром…»
Нет вылета. Зима. Забит аэродром.
Базарный грош цена тому, как мы живем.
Куда мы все летим? Зачем берем билет?
Когда необходим один в окошке свет.
Я вышел в зимний лес,
прошел одну версту.
И то наперерез летел всесильный «ТУ».
Он сторожил меня овчаркой злых небес.
Я помахал ему перчаткой.
Он исчез.
И я пошел назад, по смерзшейся лыжне.
Я здорово озяб, и захотелось мне
Обратно в теплый дом,
где мой в окошке свет,
Крылом и колесом не оправдаться, нет!
АЛМА-АТА
Ничего не надо, кроме
рынка в раннем сентябре,
дыни в перистой соломе,
пива светлого в истоме,
воблы в ветхом серебре.
Коль жара пошла к упадку,
опрокидывал я кадку
с ледниковою водой.
Мылся, брился, растирался,
в тех краях не растерялся —
утром приходил домой.
За рекой Алма-Атинкой
подружился я с блондинкой —
челка и зеленый взор.
Оказалось, что татарка.
Я купил ей два подарка —
брошь и ложки — мельхиор.
Были у нее ребята,
сын Тимур и дочка Тата,
а самой-то двадцать пять.
Дети в десять засыпали,
и тогда мы засыпали
рис в кастрюльку — вечерять.
Ели плов, а после дыни…
И глазами молодыми
говорила мне она:
«Буду жить подмогой детям,
никуда мы не уедем.
Нам судьба Алма-Ата».
Вот и все. И я простился
и в обратный путь пустился,
и пошел четвертый год.
Верно, и она забыла.
Что же все же это было?
Почему в душе живет?
ПЕРЕД СОЛНЦЕВОРОТОМ
Набережная Ялты в середине марта,
именитая публика еще не подгребала —
сыро, ветрено и прохладно,
на море волнение — три балла.
Все мы дети Цельсия и Реомюра,
ждем у моря случая и погоды,
вон блондинка в розовом приуныла,
одиноко разглядывая шверботы.
Сдвинем кружки, усядемся потеснее,
солнцепоклонники в ожидании литургии.
Все, кто здесь, ошую и одесную,
братья свету, волненью волны родные.
Ну, а ты, делегированная Краснодаром,
прилетевшая к морю по горящей путевке,
вот увидишь — все сбудется, ведь недаром
точно пурпур богини твои обновки.
Нету близости больше, чем перед солнцеворотом,
нет единства светлее, чем перед загаром
с этой вот медсестрой, с этим разнорабочим,
с этим завучем, управдомом, завгаром.
«Холодный песок прибалтийский…»
Холодный песок прибалтийский
Замешан на талом снегу,
Как хочется мне проболтаться!
А вот не могу, не могу.
Ангиной во мне наболели,
И стали как-будто сродни
Последние числа апреля
И первые майские дни.
Над льдистой разрухой залива,
Норд-весту попав на прицел,
Стою, бормочу торопливо,
Что к месту сказать не сумел.
Мне больше не сладить с гортанью,
Как скоро меня извели!
И вот я причислен к молчанью
Холодной и дерзкой земли.
«Тревожная осень, над городом свист…»
Арк. Штейнбергу
Тревожная осень, над городом свист,
Летает, летает желтеющий лист.
И я подымаю лицо за листом,
Он медлит, летя перед самым лицом.
Воздушный гимнаст на трапеции сна,
О, как мне ужасна твоя желтизна.
Посмертный, последний, оберточный цвет.
— Что было, то было, теперь его нет, —
Ты в этом уверен, поспешно летя,
Воздушное, злое, пустое дитя.
Но я говорю перед самой зимой:
— Что делать — таков распорядок земной.
Четыре сезона, двенадцать часов —
Таков зодиак, распорядок таков.
Пусть стрелка уходит, стоит циферблат,
Его неподвижность лишь учетверят
Четыре сезона, двенадцать часов.
Не бойся вращенья минут и миров.
Прижмись, прислонись к неподвижной оси.
Терпенья и зренья у неба проси, —
Себе говорю я…
«Под северным небом яснее всего…»
Под северным небом яснее всего,
Что нету совсем ничего. Ничего.
ВЗГЛЯД С КРЫЛЬЦА ДОМА ПОЭТА В СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ
Крыльцо елозит под ногой — обледенело,
А мне приплясывать, скользить — забава,
Однако все же посмотри налево,
И прямо тоже, и потом направо.
Там за рекой поля — края снега,
Лес первый, лес второй, лес третий —
Такая тихость, глубина, нега,
Какую никогда, нигде не встретить.
А дальше что? Пойдет тайга, чащи,
алтайский брег или чухонский омут.
Но даже конь и аппарат летящий
Преодолеть пространство это могут.
А дальше что? Стоит сырой Лондон,
Зеленый лавр венчает путь к Риму.
Среди холмов латинских торф болотный,
Столь не похожий на родную глину.
А тут снега идут — сугроб до неба.
А наметет еще — дойдет до бога.
И жизнь тиха — от кабинета
Вся умещается — и до порога.
Когда метель стучит, как дождь с громом,
А жар от печек, что тоска, угарен,
Сидит и цедит кипяток с ромом
В селе Михайловском его барин.
ТАРУСА
М.Л.
Пустая гостиница стонет:
Мой номер велик и дощат,
И слышно бывает спросонья,
Когда половицы трещат.
Стоит бесконечная осень
Над медленной русской рекой,
И веет теплом кисло-сладким,
И тянет прохладой грибной.
А жирный чугун сковородки,
Косое хмельное стекло,
Душистая шерсть одеяла
И днем увлекают в постель.
Зато, когда выйдешь под вечер,
Холодного пива хлебнешь
И сядешь над бойкой водою,
С размаха побрызгав в лицо.
Тогда безутешная ясность
Встает, как ночная заря, —
Как славно пожить здесь до смерти,
Но тут оставаться нельзя.
Должно еще что-то случиться,
А что, разберемся потом.
Граница, гробница, грибница —
Мерещатся ночью слова.
БРАТЬЯМ ЧИЛАДЗЕ