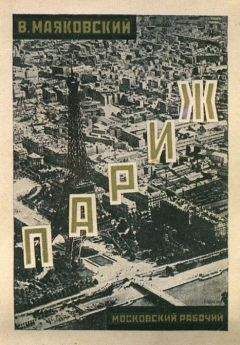Владимир Маяковский - Том 8. Стихотворения, поэма, очерки 1927
[1927]
Корона и кепка*
Царя вспоминаю —
и меркнут слова.
Дух займет,
и если просто «главный».
А царь —
не просто
всему глава,
а даже —
двуглавный.
Он сидел
в коронном ореоле,
царь людей и птиц…
— вот это чин! —
и как полагается
в орлиной роли,
клюв и коготь
на живье точил.
Точит
да косит глаза грозны́!
Повелитель
жизни и казны.
И свистели
в каждом
онемевшем месте
плетищи
царевых манифестин.
«Мы! мы! мы!
Николай вторы́й!
двуглавый повелитель*
России-тюрьмы
и прочей тартарары,
царь польский,
князь финляндский,
принц эстляндский
и барон курляндский,
издевающийся
и днем и ночью
над Россией
крестьянской и рабочей…
и прочее,
и прочее,
и прочее…»
Десять лет
прошли —
и нет.
Память
о прошлом
временем гра́бится…
Головкой русея,
— вижу —
детям
показывает шкрабица*
комнаты
ревмузея.
— Смотрите,
учащие
чистописание и черчение,
вот эта бумажка —
царское отречение.
Я, мол,
с моим народом —
квиты.
Получите мандат
без всякой волокиты.
Как приличествует
его величеству,
подписал,
поставил исходящий номер —
и помер.
И пошел
по небесной
скатерти-дорожке,
оставив
бабушкам
ножки да рожки.
— А этот…
не разберешься —
стул или стол,
с балдахинчиками со всех сторон?
— Это, дети,
называлось «престол
отечества»
или —
«трон».
«Плохая мебель!» —
как говорил Бебель*.
— А что это за вожжи,
и рваты и просты́? —
Сияют дети
с восторга и мления.
— А это, дети,
называлось
«бразды
правления».
Корона —
вот этот ночной горшок,
бриллиантов пуд —
устанешь носивши. —
И морщатся дети:
— Нехорошо!
Кепка и мягше
и много красивше.
Очень неудобная такая корона…
Тетя,
а это что за ворона?
Двуглавый орел
под номером пятым.
Поломан клюв,
острижены когти.
Как видите,
обе шеи помяты…
Тише, дети,
руками не трогайте! —
И смотрят
с удивлением
Маньки да Ванятки
на истрепанные
царские манатки.
[1927]
Вместо оды*
Мне б хотелось
вас
воспеть
во вдохновенной оде,
только ода
что-то не выходит.
Скольким идеалам
смерть на кухне
и под одеялом!
Моя знакомая —
женщина как женщина,
оглохшая
от примусов пыхтения
и ухания,
баба советская,
в загсе ве́нчанная,
самая передовая
на общей кухне.
Хранит она
в складах лучших дат
замужество
с парнем среднего ростца;
еще не партиец,
но уже кандидат,
самый красивый
из местных письмоносцев.
Баба сердитая,
видно сразу,
потому что сожитель ейный
огромный синяк
в дополнение к глазу
приставил,
придя из питейной.
И шипит она,
выгнав мужа вон:
— Я
ему
покажу советский закон!
Вымою только
последнюю из посуд —
и прямо в милицию,
прямо в суд… —
Домыла.
Перед взятием
последнего рубежа
звонок
по кухне
рассыпался, дребезжа.
Открыла.
Расцвели миллионы почек,
высохла
по-весеннему
слезная лужа…
— Его почерк!
письмо от мужа. —
Письмо раскаленное —
не пишет,
а пышет.
«Вы моя душка,
и ангел
вы.
Простите великодушно!
Я буду тише
воды
и ниже травы».
Рассиялся глаз,
оплывший набок.
Слово ласковое —
мастер
дивных див.
И опять
за примусами баба,
все поняв
и все простив.
А уже
циркуля письмоносца
за новой юбкой
по улицам носятся;
раскручивая язык
витиеватой лентой,
шепчет
какой-то
охаживаемой Вере:
— Я за положительность
и против инцидентов,
которые
вредят
служебной карьере. —
Неделя покоя,
но больше
никак
не прожить
без мата и синяка.
Неделя —
и снова счастья нету,
задрались,
едва в пивнушке по́были…
Вот оно —
семейное
«перпетуум
мобиле»*.
И вновь
разговоры,
и суд, и «треть»*
на много часов
и недель,
и нет решимости
пересмотреть
семейственную канитель.
Я
напыщенным словам
всегдашний враг,
и, не растекаясь одами
к восьмому марта,
я хочу,
чтоб кончилась
такая помесь драк,
пьянства,
лжи,
романтики
и мата.
[1927]