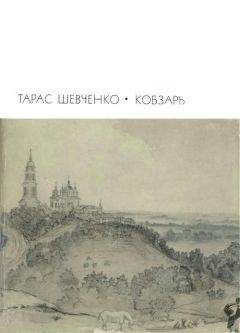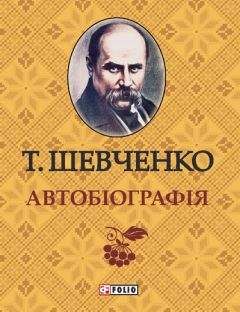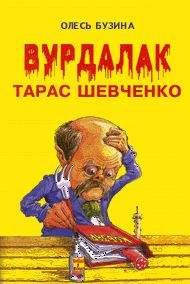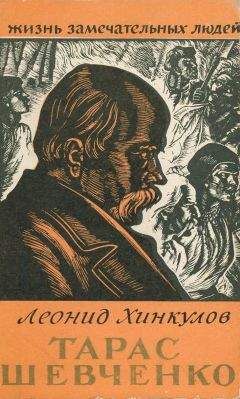Уильям Йейтс - Стихи. (В переводах разных авторов)
Итак, в первой строфе Йейтс, как древний восточный поэт или астролог, восходит на башню и, всматриваясь в туманную пелену туч, провидит за ними «странные грезы» и «страшные образы». Трехчастная структура заглавия неожиданно возвращает нас к концовке «Плавания в Византию» — к Золотой птице, назначение которой было будить сонного императора:
И с древа золотого петь живущим
О прошлом, настоящем и грядущем.
Центральные три строфы седьмой части «Размышлений…» можно воспринимать как три песни Золотой птицы. Но лишь последняя из них — определенно и однозначно о будущем (строфа о «грядущем опустошении»). В первых же двух прошлое и настоящее смешивается. В строфе о мстителях — смешивается самым зловещим образом. В комментарии Йейтса об этом говорится:
«Во второй строфе седьмого стихотворения встречаются слова «Возмездие убийцам Жака Моле!» Призыв к мщению за убитого Великого Магистра тамплиеров кажется мне подходящим символом для тех, чье рвение исходит из ненависти и почти всегда бесплодно. Говорят, что эта идея была воспринята некоторыми масонскими ложами XVIII века и в дальнейшем питала классовую ненависть[11]».
Конная скачка мстителей, которую рисует Йейтс, во многом, вплоть до деталей, похожа на уже описанную им скачку демонов в «Тысяча девятьсот девятнадцатом». Это то же самое неуправляемое и заразительное, опьяняющее буйство.
Здесь можно снова вспомнить Максимилиана Волошина, чьи мысли в годы русской смуты шли во многом параллельно мыслям Йейтса. В замечательной статье «Пророки и мстители», написанной еще в 1906 году, по следам первой русской революции, он посвящает несколько страниц легенде о мести тамплиеров. И заканчивает статью пророческим монологом «Ангел Мщенья» — апокалипсическим видением того, что буквально совершится в России через двенадцать лет.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.
Композицию стихотворения, завершающего цикл Йейтс выстраивает по принципу контраста ужасного и прекрасного. Вслед за «демонской» строфой идет строфа «райская»; сад, где «белые единороги катают прекрасных дам», находится не в прошлом и не в настоящем, он вне времени и пространства — блаженный остров, который поэт искал всю жизнь, начиная с юношеской поэмы «Плавание Ойсина».
За строфой о единорогах следует другая, о равнодушной толпе (anindifferentmultitude), которой чужды и любовь и ненависть — любые стремления, кроме рациональных и практических. Любопытно, что к «бронзовым ястребам» Йейтс делает довольно скромное примечание:
Я полагаю, что мне нужно было вставить в четвертую строфу ястребов, потому что у меня есть перстень с ястребом и бабочкой, которые символизируют прямолинейность логики, вместе с механикой, и причудливый путь интуиции: «Но мудрость бабочке сродни, а не угрюмой хищной птице».
Здесь Йейтс, по мнению комментаторов, предвещает наступление новой фазы истории, когда субъективность (символизируемая полной луной) размывается и исчезает. Наверное, так. Но после всех опытов XX века перспектива немного сдвинулась, и образ «крыльев бесчисленных, заслонивших луну», вызывает и другие ассоциации. Такой, наверное, была туча самолетов люфтваффе шириной в восемь километров, длиной в шесть, летевшая бомбить Англию в 1940 году.
«Равнодушие толпы» и «бронзовые ястребы» у Йейтса идут через запятую, как однородные члены — или как две стороны одного и того же. То и другое питается пустотой, приходящей на смену «сердечной полноте»: грезам, восторгам, негодованию, печали по прошлому. Таков приговор поэта наступающим временам.
В стихотворении используется и принцип закольцовывания. «Я всхожу на башню и вниз гляжу со стены…» (уход в мир грез) — «Я поворачиваюсь и схожу по лестнице вниз…» (пробуждение и отрезвление).
Здесь нельзя не увидеть сходства с «Одой к Соловью» Китса. «Прощай! Фантазия, в конце концов, / Навечно нас не может обмануть», — восклицает в последней строфе поэт, ужаленный в сердце красотой и скорбью. «Не лучше ли было заняться чем-то более понятным для других людей?» — вопрошает свое «честолюбивое сердце» Йейтс. Это прямой диалог с Китсом — после уже обозначенных в цикле подсказок: «achingheart» и «wakingwits».
«DoIwakeorsleep?» — последние слова «Оды к Соловью».
Но Йейтс не останавливается на этой зыбкой точке. Стихотворение кончается признанием в верности «демонским снам» с их «полупонятной мудростью» и восторгом. В оригинале сказано (буквально), что они «довлеют старику, как некогда довлели юноше»:
…Suffice the aging man as once the growing boy.
И неожиданно для нас проступает второй смысл заключительной строки. «Theagingman» и «thegrowingboy» — не только два возраста одного поэта, это еще и два разных поэта, одному из которых довелось дожить до старости, а другой (живший «некогда») навеки остался юношей.
Так, абстрагируясь от смуты настоящего и темных угроз будущего, Йейтс принимает старое романтическое наследство и втайне присягает ему.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
I. УСАДЬБЫ ПРЕДКОВ
Я думал, что в усадьбах богачей
Средь пышных клумб и стриженых кустов
Жизнь бьет многообразием ключей
И, заполняя чашу до краев,
Стекает вниз — чтоб в радуге лучей
Взметнуться вновь до самых облаков;
Но до колес и нудного труда,
До рабства — не снисходит никогда.
Мечты, неистребимые мечты!
Сверкающая гибкая струя,
Что у Гомера бьет от полноты
Сознанья и избытка бытия,
Фонтан неиссякаемый, не ты -
Наследье наше тыщи лет спустя,
А раковина хрупкая, волной
Изверженная на песок морской.
Один угрюмый яростный старик
Призвал строителя и дал заказ,
Чтоб тот угрюмый человек воздвиг
Из камня сказку башен и террас -
Невиданнее снов, чудесней книг;
Но погребли кота, и мыши — в пляс.
На нынешнего лорда поглядишь:
Меж бронз и статуй — серенькая мышь.
Что, если эти парки, где павлин
По гравию волочит пышный хвост,
И где тритоны, выплыв из глубин,
Себя дриадам кажут в полный рост,
Где старость отдыхает от кручин,
А детство нежится средь райских грозд, -
Что, если эти струи и цветы
Нас, укротив, лишают высоты?
Что, если двери вычурной резьбы,
И перспективы пышных анфилад
С натертыми полами, и гербы
В столовой, и портретов длинный ряд,
С которых, зодчие своей судьбы,
На нас пристрастно прадеды глядят, -
Что, если эти вещи, теша глаз,
Не дарят, а обкрадывают нас?
II. Моя крепость
Старинный мост, и башня над ручьем,
Укрывшийся за ней крестьянский дом,
Кусок земли кремнистой;
Взрастет ли здесь таинственный цветок?
Колючий терн, утесник вдоль дорог
И ветер, проносящийся со свистом;
И водяные курочки в пруду,
Как маленькие челны,
Пересекают волны -
У трех коров жующих на виду.
Кружащей, узкой лестницы подъем,
Кровать, камин с открытым очагом,
Ночник, перо, бумага;
В такой же келье время проводя,
Отшельник Мильтона под шум дождя
Вникал в завет египетского мага
И вещих духов вызывал в ночи;
Гуляка запоздавший
Мог разглядеть на башне
Бессонный огонек его свечи.
Когда-то здесь воинственный барон,
С дружиною своей гонял ворон
И враждовал с соседом,
Пока за годы войн, тревог, осад
Не растерял свой маленький отряд
И не притих; конец его неведом.
А ныне я обосновался тут,
Желая внукам в память
Высокий знак оставить -
Гордыни, славы, горестей и смут.
III. МОЙ СТОЛ
Столешницы дубовый щит,
Меч древний, что на нем лежит,
Бумага и перо -
Вот все мое добро,
Оружье против злобы дня.
В кусок цветастого тканья
Обернуты ножны;
Изогнут, как луны
Блестящий серп, полтыщи лет
Хранился он, храня от бед,
В семействе Сато; но
Бессмертье не дано
Без смерти; только боль и стыд
Искусство вечное родит.
Бывали времена,
Как полная луна,
Когда отцово ремесло
Ненарушимо к сыну шло,
Когда его, как дар,
Художник и гончар
В душе лелеял и берег,
Как в шелк обернутый клинок.
Но те века прошли,
И нету той земли;
Вот почему наследник их,
Вышагивая важный стих
И слыша за спиной
И смех и глум порой,
Смиряя боль, смиряя стыд,
Знал: небо низость не простит;
И вновь павлиний крик
Будил: не спи, старик!
IV. НАСЛЕДСТВО
Приняв в наследство от родни моей
Неукрощенный дух, я днесь обязан