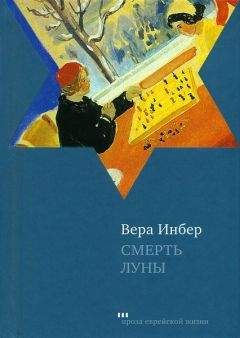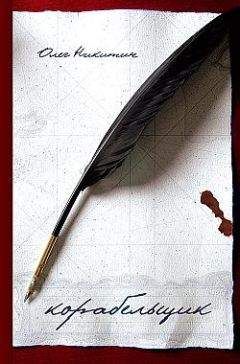Вера Инбер - Пулковский меридиан
Вера Инбер
Пулковский меридиан
Глава первая
Мы — гуманисты
В пролет меж двух больничных корпусов,
В листву, в деревья золотого тона,
В осенний лепет птичьих голосов
Упала утром бомба, весом в тонну.
Упала, не взорвавшись: был металл
Добрей того, кто смерть сюда метал.
Здесь госпиталь. Больница. Лазарет.
Здесь красный крест и белые халаты;
Здесь воздух состраданием согрет.
Здесь бранный меч на гипсовые латы,
Укрывшие простреленную грудь,
Не смеет, не дерзает посягнуть.
Но Гитлер выжег кровью и железом
Все эти нормы. Тишину палат
Он превращает в судорожный ад.
И выздоравливающий с протезом,
Храбрец, блестяще выигравший бой,
Бледнеет, видя смерть перед собой.
А вестибюль приемного покоя…
Там сколько жертв! Их привезли сейчас.
Все эти лица, голоса… какое
Перо опишет? Девушка без глаз
(Они полны осколками стекла)
Рыдает, что она не умерла.
Фашист! Что для него наш мирный кров,
Где жизнь текла, исполненная смысла,
Где столько пролетало вечеров
За письменным столом? Теперь повисла
Над пустотой развалина стены,
Где полки книг еще сохранены.
Что для фашиста мирный русский дол,
Голландский сад, норвежская деревня?
Что для него плодовые деревья,
Речная пристань, океанский мол?
Все это — только авиамишени,
Все это — лишь объекты разрушений.
Умение летать!.. Бесценный дар,
Взлелеянная гениальным мозгом
Мечта. Впервые на крылах из воска
Взлетает к солнцу юноша Икар
Затем ли, чтоб на крыльях «мессершмиттов»
Витала смерть над современным Критом?
Затем ли итальянец Леонардо
Проникнуть тщился в механизм крыла,
Чтоб в наши дни, в Берлине, после старта
Фашистская машина курс взяла
На университетские аллеи
Времен еще Декарта и Линнея?
Как грозен неба вид! Как необычен!
Как глухо полыхают жерла туч
В часы ночных боев, когда зенитчик
Прожектористу говорит: «Дай луч!»
И бледный луч на поиски врага
Вздымается, как грозная рука.
Нашла его. Нашарила за тучей.
К земле его! Чтоб оземь головой,
Чтоб подняли его моторы вой,
Чтобы сгорел он в собственном горючем,
Чтобы зловещий этот нетопырь,
Ломая крылья, пал бы на пустырь.
Не вырвется из наших рук, шалишь!..
Он мечется. Движения все резче.
Он падает. И, видя это с крыш,
Пожарные дружины рукоплещут.
И, слыша это снизу, со двора,
Дежурные во тьме кричат «ура»…
Есть чувства в человеческой душе,
Которыми она гордиться вправе.
Но не теперь. Теперь они уже
Для нас как лишний груз при переправе.
Влюбленность. Нежность. Страстная любовь…
Когда-нибудь мы к вам вернемся вновь.
У нас теперь одно лишь чувство — Месть.
Но мы иначе понимаем это;
Мы отошли от Ветхого завета,
Где смерть за смерть. Нам даже трудно счесть…
С лица земли их будет сотни стертых
Врагов — за каждого из наших мертвых.
Мы отомстим за все: за город наш,
Великое творение Петрово,
За жителей, оставшихся без крова,
За мертвый, как гробница, Эрмитаж,
За виселицы в парке над водой,
Где стал поэтом Пушкин молодой,
За гибель петергофского «Самсона»,
За бомбы в Ботаническом саду,
Где тропики дышали полусонно
(Теперь они дрожат на холоду).
За все, что накопил разумный труд,
Что Гитлер превращает в груды груд.
Мы отомстим за юных и за старых:
За стариков, согнувшихся дугой,
За детский гробик, махонький такой,
Не более скрипичного футляра.
Под выстрелами, в снеговую муть,
На саночках он совершал свой путь.
Мы — гуманисты, да! Нам дорог свет
Высокой мысли (нами он воспет).
Для нас сиянье светлого поступка
Подобно блеску перстня или кубка,
Что переходит к сыну от отца
Из века в век, все дале, без конца.
Но гуманизм не в том, чтобы глядеть
С невыразимо скорбной укоризной,
Как враг глумится над твоей отчизной,
Как лапа мародера лезет в клеть
И с прибежавшего на крик домой
Срывает шапку вместе с головой.
Как женщину, чтоб ей уже не встать,
Фашист-ефрейтор сапогами топчет,
И как за окровавленную мать
Цепляется четырехлетний хлопчик,
И как, нарочно по нему пройдя,
Танк давит гусеницами дитя.
Сам Лев Толстой, когда бы смерть дала
Ему взглянуть на Ясную Поляну,
Своей рубахи, белой, как зима,
Чтоб не забрызгать кровью окаянной,
Фашиста, осквернителя могил,
Он старческой рукой бы задушил.
От русских сел до чешского вокзала,
От крымских гор до Ливии пустынь,
Чтобы паучья лапа не всползала
На мрамор человеческих святынь,
Избавить мир, планету от чумы —
Вот гуманизм! И гуманисты — мы.
А если ты, Германия, страна
Философов, обитель музыкантов,
Своих титанов, гениев, талантов
Предавши поруганью имена,
Продлишь кровавый гитлеровский бред, —
Тогда тебе уже прощенья нет.
Запомнится тебе ростовский лед.
Не позабудешь клинскую метель ты,
И синие морозы невской дельты,
И в грозном небе Пулковских высот,
Как ветром раздуваемое пламя,
Победоносно реющее знамя.
Глава вторая
Свет и тепло
В ушах все время словно щебет птичий,
Как будто ропот льющейся воды:
От слабости. Ведь голод. Нет еды.
Который час? Не знаю. Жалко спички,
Чтобы взглянуть. Я с вечера легла,
И длится ночь без света и тепла.
На мне перчатки, валенки, две шубы
(Одна в ногах). На голове платок;
Я из него устроила щиток,
Укрыла подбородок, нос и губы.
Зарылась в одеяло, как в сугроб.
Тепло, отлично. Только стынет лоб.
Лежу и думаю. О чем? О хлебе.
О корочке, обсыпанной мукой.
Вся комната полна им. Даже мебель
Он вытеснил. Он близкий и такой
Далекий, точно край обетованный.
И самый лучший — это пеклеванный.
Он с детством сопрягается моим.
Он круглый, как земное полушарье.
Он теплый. В нем благоухает тмин.
Он рядом. Здесь. И, кажется, пошарь я
Рукой, перчатку лишь сними, —
И ешь сама. И мужа накорми.
А там, по Северной, сюда идут,
Идут составы — каждый бесконечен.
Не счесть вагонов. Ни один диспетчер
Не посягает на его маршрут.
Он знает: это посланный страной,
Особо важный. Внеочередной.
Там тонны мяса, центнеры муки,
И все это в три яруса грядою
Лежит в полкилометра высотою.
Но все это не доезжая Мги.
Там овощи. Там витамины «Ц»…
Но к нам им не добраться. Мы в кольце.
Да, мы — в кольце. А тут еще мороз
Свирепствует, невиданный дотоле.
Торпедный катер стынет на приколе,
Автобус в ледяную корку врос;
За неименьем тока нет трамваев.
Все тихо. Город стал неузнаваем.
И пешеход, идя по мостовой
От Карповки до улицы Марата,
В молчанье тяжкий путь свершает свой.
И только редкий газогенератор
На краткую минуту лишь одну,
Дохнув теплом, нарушит тишину.
Как бы сквозь сон, как в деревянном веке,
Невнятно где-то тюкает топор.
Фанерные щиты, сарай, забор,
Полусгоревшие дома-калеки,
Остатки перекрытий и столбов —
Всё рубят для печурок и гробов.
Две женщины (недоля их свела),
В платках до глаз, соприкасаясь лбами,
Пенек какой-то пилят. Но пила,
С искривленными, слабыми зубами,
Как будто бы и у нее цинга,
Не в состоянье одолеть пенька.
Ни лая, ни мяуканья, ни писка
Пичужьего. Небось пичуги там,
Где, весело летая по пятам
За лошадью, как из горячей миски,
Они хватают зернышки овса…
Там раздаются птичьи голоса.
Нет радио. И в шесть часов утра
Мы с жадностью «Последние известья»
Уже не ловим. Наши рупора —
Они еще стоят на прежнем месте, —
Но голос… голос им уже не дан:
От раковин отхлынул океан.
Вода!.. Бывало, встанешь утром рано,
И кран, с его металла белизной,
Забулькает, как соловей весной,
И долго будет течь вода из крана.
А нынче, ледяным перстом заткнув,
Мороз оледенил блестящий клюв.
А нынче пьют из Невки, из Невы
(Метровый лед коли хоть ледоколом).
Стоят, обмерзшие до синевы,
Обмениваясь шуткой невеселой,
Что уж на что, мол, невская вода,
А и за нею очередь. Беда!..
А тут еще какой-то испоганил
Всю прорубь керосиновым ведром.
И все, стуча от холода зубами,
Владельца поминают недобром:
Чтоб дом его сгорел, чтоб он ослеп,
Чтоб потерял он карточки на хлеб.
Лишилась тока сеть водоснабженья,
Ее подземное хозяйство труб.
Без тока, без энергии движенья
Вода замерзла, превратилась в труп.
Насосы, фильтры — их живая связь
Нарушилась. И вот — оборвалась.
(В системе фильтров есть такое сито —
Прозрачная стальная кисея,
Мельчайшее из всех. Вот так и я
Стараюсь удержать песчинки быта,
Чтобы в текучей памяти людской
Они осели, как песок морской.)
Зима роскошествует. Нет конца
Ее великолепьям и щедротам.
Паркетами зеркального торца
Сковала землю. В голубые гроты
Преобразила черные дворы.
Алмазы. Блеск… Недобрые дары!
И правда, в этом городе, в котором
Больных и мертвых множатся ряды,
К чему эти кристальные просторы,
Хрусталь садов и серебро воды?
Закрыть бы их!.. Закрыть, как зеркала
В дому, куда недавно смерть вошла.
Но чем закрыть? Без теплых испарений
Воздушный свод неизъяснимо чист.
Нетающий на ветках снег — сиренев,
Как дымчатый уральский аметист.
Закат сухумской розой розовеет…
Но лютой нежностью все это веет.
А в час, когда рассветная звезда
Над улиц перспективой несравненной
Сияет в бездне утренней, — тогда
Такою стужей тянет из вселенной,
Как будто бы сам космос, не дыша,
Глядит, как холодеет в нас душа.
Недаром же на днях, заняв черед
С рассвета, чтоб крупы достать к обеду,
Один парнишка брякнул вдруг соседу:
— Ну, дед, кто эту ночь переживет,
Тот будет жить. — И старый дед ему:
— А я ее, сынок, переживу.
Переживет ли? Ох! День от дня
Из наших клеток исчезает кальций.
Слабеем. (Взять хотя бы и меня:
Ничтожная царапина на пальце,
И месяца уже, пожалуй, три
Не заживает, прах ее бери!)
Как тягостно и, главное, как скоро
Теперь стареют лица! Их черты
Доведены до птичьей остроты
Как бы рукой зловещего гримера:
Подбавил пепла, подмешал свинца —
И человек похож на мертвеца.
Открылись зубы, обтянулся рот,
Лицо из воска. Трупная бородка
(Такую даже бритва не берет).
Почти без центра тяжести походка,
Почти без пульса серая рука.
Начало гибели. Распад белка.
У женщин начинается отек,
Они всё зябнут (это не от стужи).
Крест-накрест на груди у них все туже,
Когда-то белый, вязаный платок.
Не веришь: неужели эта грудь
Могла дитя вскормить когда-нибудь?
Апатия истаявшей свечи…
Все перечни и признаки сухие
Того, что по-ученому врачи
Зовут «алиментарной дистрофией»
И что не латинист и не филолог
Определяет русским словом «голод».
А там, за этим, следует конец.
И в старом одеяле цвета пыли,
Английскими булавками зашпилен,
Бечевкой перевязанный мертвец
Так на салазках ладно снаряжен,
Что, видимо, в семье не первый он.
Но встречный — в одеяльце голубом,
Мальчишечка грудной, само здоровье,
Хотя не женским, даже не коровьим,
А соевым он вскормлен молоком.
В движении не просто встреча это:
Здесь жизни передана эстафета…
И тут в мое ночное бытие
Вплетается со мною разлученный
Иной ребячий облик — мой внучонок.
Он в валеночках, золотце мое.
Он тепел. Осязаем. Он весом…
Увы! Я сплю. И это только сон.
Глава третья