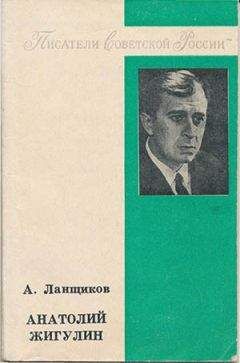Анатолий Бергер - Продрогшие созвездия
Но вскоре я встретил Лену, и всё стало по-иному. То была обычная молодёжная вечеринка — 1 мая 1965 года. Мой приятель Эмиль Гермер, его знакомая Матильда, его друг Володя, ещё две девушки. Встреча была у метро «Чернышевская». Невысокая черноволосая женщина с большими карими глазами с интересом посмотрела на мою соломенную шляпу, которую я сдуру надел тогда при модном болоньевом плаще. Мне даже показалось, что в глазах её сверкнула задорная искорка.
Потом танцевали и много говорили. Говорили, конечно, и о стихах. И я почувствовал некий духовный отзыв. Я пошёл провожать Лену. Мы шли до Фонтанки, где она снимала комнату, по притихшему весеннему городу, я повёл её давно облюбованным мной переулком, где дома стояли напротив друг друга так близко, что переулок казался коридором, и каблучки Лены звучали как-то особенно звонко и торопливо. Маме я сказал, что встретил красавицу и умницу, что раньше в моих приключениях как-то не совпадало.
Мы стали видеться, ей понравились мои стихи, я почувствовал необходимость этих встреч. Что ж тут долго говорить — сейчас 2012 год, мы уже 47 лет вместе, и я смело могу сказать, что та встреча в 1965 году самая важная в моей жизни, то счастье, которое не каждому выпадает. Но пожениться сразу мы не могли, бедность отодвигала то, что должно было свершиться. Всё равно мы были вместе.
Свежий ветер шестидесятых годов ещё дул в паруса страны, хотя зловещие предзнаменования давали о себе знать. Я писал стихи, которые, наверное, опасно было читать малознакомым людям, но не писать, не читать их я не мог. Друзья собирались у меня по пятницам, я читал, мы обсуждали стихи и окружающую жизнь.
Тогда я написал цикл стихов «Россия». Многие из них я и сейчас включаю в свои книги:
Кнут солёный, жаровня, дыба,
Да скрежещет перо дьяка,
И за то, знать, Руси спасибо,
Что стоит на этом века.
Что её — волчий взгляд Малюты,
Беспощадная длань Петра,
И гражданские злые смуты,
И советских казней пора.
Что сынов её — пуля-слава,
Вышка лагерная — судьба,
И приветствовала расправы
Раболепная голытьба.
Но сынам ли считать ушибы,
Им ли слёзы лить на Руси?
Ох, спасибо же ей, спасибо,
Спаси Бог её, Бог спаси.
Андрей Бабушкин говорил, что большевизм не маска на лице России, это её настоящее лицо во всей его неприглядности. Что нас ждёт в будущем — национальная рознь, политический раздрай или подлинная свобода? Тогда мы могли только догадываться. Сейчас видно, что эти догадки были недалеки от истины.
Меня почти не печатали, одно только стихотворение «Костёр» появилось в сборнике «Молодой Ленинград» за 1966 год. Мы читали взахлёб в самиздате — Солженицына, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, старых авторов — Замятина, Ремизова, «Последние стихи» Зинаиды Гиппиус, издания начала 20-х годов — Шпенглера «Закат Европы», Фрейда. Но уже шли процессы Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанского. Отбывал ссылку Иосиф Бродский. При этом власть иезуитски печатала обрезанные тексты Пастернака, Цветаевой, Булгакова.
Что-то тёмное, безоговорочное близилось. Я это чувствовал. Стихи мои, казалось, предупреждали меня. Но какая молодость внемлет предупреждениям судьбы? 16 января 1969 года мы с Леной поженились. 15 апреля 1969 года в 8 утра твёрдый, продолжительный звонок в дверь нашей квартиры в Дачном разрушил не только сон её обитателей — он разрушил нашу жизнь на долгие 6 лет.
Вошедшие люди — они были тёмные и глухоголосые — заполнили комнату. «Нам нужен Анатолий Бергер». Я был нездоров тогда, накануне в поликлинике продлил бюллетень, на ночь мне делали горчичники. Я привстал на кровати. В ордере на обыск меня подозревали в сношениях с неким Мальчевским, о котором я слышал впервые. Начался обыск. Обыскивали вещи, простукивали стены. Открыли пианино и совались в переплетение его музыкальных рёбер и жил. Отца не было дома, мама, посеревшая лицом, молчала. Я поймал её взгляд — огромный и стонущий. Жена села рядом со мной на кровати, обняла за плечи. Меня снедала тревога. Я спорил с темнеющими по комнате людьми, говорил о недоразумении, о том, что детективное и дефективное недаром подобны на слух. Телефон отключили, перед тем, как пустить меня в туалет, обыскали. Мне предложили ехать на Литейный для выяснения. Не веря ещё во всю силу несчастья, я согласился. Я даже не взял из дома денег, даже не попрощался по-настоящему с мамой и женой. Я только помахал им рукой. «Победа» повезла меня прочь от дома. Обыск продолжался.
Дорогой я смотрел на город, но не прощально, как из армейского автобуса. Я еще не верил в беду. Почему-то в сердце запело на миг горделивое сиянье. Но это было недолго.
Коридоры КГБ мало чем отличались от коридоров других учреждений, и снующие люди и хлопающие двери были, как всюду. Меня ввели в кабинет под номером десять. Допрашивал меня капитан по фамилии Кислых. И кабинет был скучен и хмур, как в любом учреждении, только на окнах чернели решётки. Меня спрашивали о друзьях, об их занятиях. Но чаще других — о Коле Брауне. Это меня внутренне задело, я что-то почуял, но так отдалённо! За эти ответы мне не стыдно. Кислых укорял меня в неоткровенности. Я заметил, что он нажимал кнопку на столе, отчего приходил другой человек на смену, в одиночестве меня не оставляли. Все вели себя по-разному. Один молчал, углубившись в бумаги. Другой — белобрысый, в модной японской куртке — вёл любовный разговор по телефону. Мне запомнилась фраза: «Галочка, я Вас категорически приветствую». Меня она сходу резанула неприятной чужеродностью. Сторожил меня и кто-то грубый с кряжистым лицом, он сказал мне: «Это тебе не в компании болтать, подвыпив». Я ему резко возражал. Я отказался сидеть за столиком у двери и сидел или лежал на плотном чёрном диване. В середине дня Кислых принёс стакан простокваши, стакан чая, кусок свежей колбасы и булочку. Я томился. Я требовал отпустить меня, и шорох каждого троллейбуса воспринимал как благую весть. Я только в глубине сердца думал о своих тетрадях в письменном столе, и они словно бы давили на меня своей тяжестью. Но я не верил, что их тяжесть утянет меня на дно. Я ещё надеялся. А сторожа менялись всё чаще. Я устал, я у каждого из них спрашивал, скоро ли меня отпустят. И они уныло обнадёживали меня, а я всё прислушивался к шороху троллейбусов, к рокоту проводов за окном. Приближалась ночь, и я мечтал уже попасть домой хотя бы к двенадцати часам. Я представлял волнение родных и главное — я всё надеялся, я не мог оставить надежду. Как наивно всё это было!
Молодой следователь при мне принёс мешок с чьими-то рукописями. Они тряслись в мешке, как живые. Он бросил свой улов в шкаф. Вид у него был довольный, как у ловкого рыбака. Я чувствовал, что происходит тёмное и постыдное — и здесь, и со мной, и рядом. И всё равно надеялся.
Наконец, без двадцати двенадцать меня завели в какую-то комнату, и Кислых сразу предъявил мне 70-ю статью. Строки этой статьи об изготовлении и хранении оглушили меня, как взрывная волна. Едва я дочитал их, за спиной моей послышался топот сапог и стук прикладов. Я увидел двух солдат с карабинами. Это было уже безоговорочно страшно. Я понял, что час мой пробил. Меня повели в тюрьму.
Следователи менялись вначале каждый день. Одни были вкрадчивы, другие резковаты.
В конце концов, мною занялся Алексей Иванович Лесников. Меня стали водить в кабинет № 6. Он был неплохой психолог, этот Алексей Иванович. Заметив мою тоску по родным, он при мне звонил им домой раз в неделю (по вторникам). Я жил этими звонками. Казалось, телефонные провода сплетены из моих жил.
А время шло. Менялись напарники. Гораздо позже я написал рассказ «12 сокамерников». Впервые он был опубликован в журнале «Знамя» в 1997 году.
20 ноября начался суд. Суд был, конечно, закрытый. Разрешили присутствовать только родным. В зале маячили какие-то чужие смутные фигуры в штатском. Я смотрел на моих близких, не отрываясь. Они держались крепко. И тем острее пронзила меня их мука. По тёмной бледности лиц, по горести глаз видно было, сколько они пережили.
Чтобы наказать нас жёстче, к нам с Брауном подключили группу уголовников. Их возглавлял Мальчевский, которому заодно инкриминировалось несколько разговоров с Брауном. О них он разболтал в камере, где к нему подсаживали провокаторов («наседок» — по-тюремному). Он передавал им даже записки, и несколько фраз из этих записок тоже ставилось ему в вину.
Я, наконец, стал понимать происходящее. Суд был продолжением следствия — это было ясно. Адвокаты ютились за своим столом, как бедные родственники. Судья Исакова резко на них покрикивала. К прокурорше же она обращалась любезно и милостиво. Меня и Брауна выслушивала сухо и сурово, а уголовников слушала порой по-бабьи, опершись подбородком о запястье. Глаза её, узко взиравшие на нас двоих, тогда округлялись. Два заседателя таскали тома дела на судейский стол и внимали всему происходящему, как усердные ученики. Мы с Брауном уже знали, что обречены. Я видел по нему, что и его надежды рушатся, и в душу его проникает отчаяние. Но что было делать? Дамоклов меч уже врезался в наши судьбы.
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)
![Анатолий Бергер - Состав преступления [сборник]](/uploads/posts/books/257609/257609.jpg)
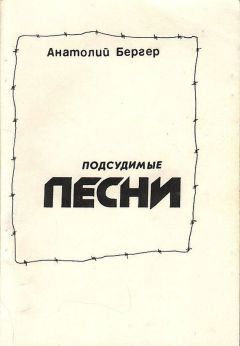
![Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]](/uploads/posts/books/40475/40475.jpg)