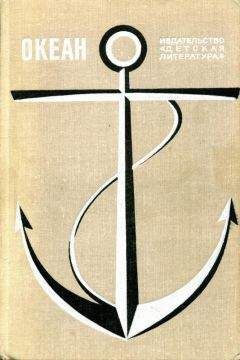Владимир Каменцев - Океан. Выпуск пятый
— Можно? — раздался глуховатый голос.
— Входите, только ненадолго и… — сестра поднесла палец к губам, — в общем, сами понимаете.
Вошел Сорокин. Из коротких рукавов халата выглядывали красные, натруженные руки, в которых он держал какой-то кулек.
— Здравствуй, моряк.
Нахимов улыбнулся и хотел поздороваться, но получилось что-то шипящее и нечленораздельное.
— Ты молчи, молчи. Крепко тебя садануло, ну да на нас заживает быстро. А говорить не надо. Помню, в восемнадцатом, когда попал в госпиталь, доктора тоже молчать велели, так я петь про себя научился, лежу, бывало, и пою, да так здорово. Вот и ты пой, но молча. Про свои сундуки-рундуки. — Сорокин сел на край кровати. — Да, к фамильному ордену тебя представили, Нахимова. Кто он тебе? Прадед, что ли? — Сорокин хитровато сощурился. — Сам адмирал Кузнецов интересовался, как у тебя дела.
— Все. Заканчивайте. — Сестра строго посмотрела на замполита. — Спать ему надо.
— Ну, поправляйся. — Сорокин потрепал лейтенанта по щеке и вышел. В коридоре он остановился и оглянулся на дверь палаты. — Вот тебе и «пятнадцать человек на сундук мертвеца»…
О. Туманов
ГОЛУБОЙ КРЕЙСЕР
Из рассказов водолаза
Над Новороссийском стояло жаркое лето сорокового года. На рейде покачивались «иностранцы», ожидая своей очереди под погрузку. Деловито дымили трубы цементных заводов.
Мальчишки-чистильщики носились по пыльным от цемента улицам, выбивали сапожными щетками дробь по ящикам, выкрикивая ими же сочиненную прибаутку:
Чистим, блистим, полируем всем рабочим и буржуям!
Берем с рабочего пятак, а с буржуя — четвертак!
Они устраивали прохожим засады, набрасывались на их ботинки, как стая оголодавших воробьев на корку хлеба. А окончив чистить, кидали на ботинок вконец ошалевшего клиента горсть пыли и, смахивая ее щеткой, приговаривали:
Ни пыль, ни вода не пристанут никогда!
Пацаны-ныряльщики готовились к приходу теплохода «Грузия», чтобы начать свой подводный спектакль. Пассажиры, развлекаясь, бросают в море монетки, а мальчишки, перевернувшись под водой на спину, ловят их ртом. Вечером на вырученные за день деньги они устроят пир из газировки с двойным сиропом и дешевых мясокомбинатских пирожков.
Солнце оседлало Колдун-гору. Разомлевшее от жары, покрытое солнечными дорожками, багровело море. Оно тихо вздыхало и что-то быстро-быстро говорило, набегая волной на прибрежную гальку. Позванивая на поворотах, уставшие за день бегать, медленно ползли в гору трамваи с гроздьями висящих по бокам пассажиров. Рабочий день кончился. Новороссийск готовился к субботнему вечеру.
Первым его увидел пацан-ныряльщик, сидевший на дереве. Он сбрасывал дружкам вниз сладкие стручки акации. Пацан застыл на суку и обалдело заморгал глазами. Из-за горизонта появился и стремительно понесся к порту голубой корабль.
Мальчишки, родившиеся и выросшие у моря, чуть не с пеленок носят тельняшку и также с пеленок ни на минуту не сомневаются в том, что со временем облачатся в клеш, синюю форменку с гюйсом и бескозырку. Они великолепно владеют «семафором», передают морякам стоящих на рейде кораблей приветы от их знакомых девушек, знают наизусть типы и названия кораблей, разбираются в них не хуже любого сигнальщика.
Сейчас, высасывая из стручков сладкий сок, они даже и не подозревали, что пройдет не так уж много времени и, надев морскую форму, они примут на себя вместе с отцами бремя самой тяжелой и кровавой войны в истории человечества. Примут, выстоят и победят.
Но это будет несколько лет спустя, а сейчас… Сидевший на дереве пацан мог поклясться чем угодно, что корабль, входящий в порт, он видел впервые. Он кубарем свалился с дерева.
— Ребя… Ребя… — боясь ошибиться, робко пробормотал он. — Голубой крейсер!
— Ты что, спятил? Может, скажешь, красный?!
— Да нет, голубой. Клянусь! В бухту входит…
— Забожись!
Пацан заколебался. Но вдруг решительно, точно убеждая самого себя, выкрикнул:
— Да сидеть мне всю жизнь на Батайском семафоре!
Почему именно на Батайском, никто не знал. Но клятва считалась страшной, и приятели ринулись к деревьям, спеша занять самое высокое место.
В бухту входил корабль, похожий на сновиденье. Голубой корабль! Мальчишки помнили легко режущие форштевнями воду «Ворошилов», «Червону Украину», «Красный Кавказ» и «Красный Крым». Но этот, идущий с такой скоростью, что развевающаяся по бокам форштевня водяная грива закрывает почти весь полубак, они видели впервые. Трубы и мачты его слегка откинуты назад. Острая носовая часть и «зализанные» обводы высокого полубака, окутанные пеной и брызгами разрезаемой волны, подчеркивали стремительность корабля. Над палубой стлались орудийные башни и торпедные аппараты. А какой цвет! Не серо-стальной, шаровый, как у всех в эскадре, а с голубым оттенком…
Пацанва, скатившись с деревьев, бросилась в порт, забыв обо всем на свете. Задыхаясь от восторга и быстрого бега, побледневшие, с вытянутыми от волнения лицами, на вопросы встречных они, не останавливаясь, выпаливали:
— Голубой крейсер! Голубой крейсер!
— Где?
— В порт входит! — Мелькали пятки, поднимая клубы густой жирной цементной пыли.
Когда они ворвались на мол, корабль уже подходил к стенке. Будто разрезанная и вывороченная плугом поднималась из-под форштевня волна и, отвалившись от корпуса, хрусталем рассыпалась по разомлевшей глади моря. Сквозь пену и брызги светились до блеска надраенные буквы «Ташкент». Но почему-то это название корабля никак не отозвалось в ребячьих душах. Сердце приняло и поверило в «Голубой крейсер». И, как это часто бывает, за пацанами взрослые, а потом и весь флот нарекли его полюбившимся сердцу именем «Голубой крейсер».
Флот пополнился новой боевой единицей. Лидер «Ташкент» имел крейсерское вооружение и развивал скорость, равную скорости тогдашнего курьерского поезда — восьмидесяти километрам.
Увидев его на подходе к бухте, пацаны неизменно бросали все свои дела и неслись в порт, задыхаясь, падая и в кровь сбивая коленки, чтобы первыми приветствовать любимца при швартовке, а если повезет, то и принять чалку. Даже видавшие виды невозмутимые портовые грузчики, свалив со спины ношу и прикрыв рукой глаза от солнца, любовались голубым красавцем, поднимающим за кормой пенные буруны.
— Лиха посудина, — говорил старшой, доставая кисет. Они закуривали, каждый по-своему выражая восхищение.
— Шо надо!
— Як конь!
— Сам ты конь… — затягиваясь терпким, берущим за печенку самосадом, говорил третий.
— Так я ж…
— Оно и видать, шо ты!.. То ж красота!.. Зрелище! Сказать мало!.. А ты — конь… — подняв не разгибающийся указательный палец, изрекал грузчик.
Старшой, сплюнув на ладонь и потушив о нее цигарку — а то и до пожара недалеко — прекращал затянувшиеся смотрины:
— Кончай ночевать!
Война ворвалась на нашу землю, окрашивая Черное море отсветом пожарищ. Замолк ребячий смех. Не стало слышно барабанной дроби сапожных щеток юных чистильщиков, перестали трещать под ногами мальчишек сучья акаций. Теперь мальчишки, еще не успевшие войти в мужскую силу, сгибались под тяжестью снарядных гильз на заводе «Красный двигатель». По ночам неслышными тенями они заполняли крыши, сбрасывали на землю немецкие зажигалки, а утром снова вырастали у токарных станков. Многим из них суждено будет пополнить экипажи кораблей Черноморской эскадры, стать мотористами, рулевыми, сигнальщиками, водолазами.
Жил напряженной трудовой солдатской жизнью и лидер «Ташкент». Его дерзкие, не поддающиеся по своей смелости описанию рейды принесли лидеру новую, теперь уже боевую славу — славу легендарного корабля Черноморской эскадры. Вместе с заходящим солнцем каждый вечер «Ташкент» покидал Новороссийскую бухту и исчезал за горизонтом. Ночью он вырастал у берегов Крыма и обрушивал шквальный огонь на батареи противника, сея смерть и страх. Затем заходил в Севастополь, грузил на борт раненых и утром на рассвете как ни в чем не бывало возвращался в Новороссийск. Фашисты организовали специальные эскадрильи самолетов-торпедоносцев, охотившихся только за «Ташкентом». Но отвага и умение команды хранили его, спасая и помогая выйти невредимым, казалось, из самых безвыходных положений.
27 июня 1942 года «Ташкент» возвращался из очередного похода, имея на борту раненых, женщин, детей и бесценное творение русской живописи — Севастопольскую панораму, свернутую в рулон. На командирском мостике стоял смуглый, небольшого роста, будто вросший в палубу, скуластый командир корабля капитан третьего ранга Ерошенко. На нем парадный китель с орденом. И комиссар Коновалов сменил хлопчатобумажный китель на парадный.